 |
|
|
|
|
||
Поезд №150
А в прошлом году чёрная табличка треснула прямо по золотым буквам "Городской суд" и входящие в здание так и оставили её без внимания. Точёные ступеньки только радовались возмужанию соседа и плавно отступали под шаркающими выпадами туфель, одна пара которых принадлежала главному герою. Дырчатые и створчатые они внесли хозяина на крыльцо и в коридор направо. Мягкость и неуверенность их поступи никак не соответствовали должности адвоката, и, хотя при работе требовалась только верхняя часть тела, уголовные дела Евгению не доверили, оставив под его присмотром гражданские иски.
Если бы личное дело в учреждении было действительно личным, то, помимо двадцативосьмилетнего возраста и женатого семейного положения, можно было бы узнать о склонности Жени к меланхолии, о заброшенной неизвестно куда тетрадке стихов, о нерешительности выбора профессии. А уж графа "степень любви к детям" не появится никогда.
Их было двое: девочка и девочка. Семь лет и четыре месяца и наоборот. Отец любил их очень осторожно, смущаясь своего чувства и пряча его. Он не полагал пути их развития и надеялся на силу, живущую помимо него в детях, черпая в ней красноречие для работы. Окончательное утешение было найдено в случайной статье, прочитанной в связи с делом об избиении младенца, где "не надо воспитывать детей, уродуя их тем самым" и "росток сам найдёт трещинку в родильном асфальте". И даже когда старшая с нетерпением уверенности спросила, зачем папа опять уезжает, он, почувствовав вину за разлуку, произнёс:
- Дела там у меня, доченька, по работе, ну, послушать людей, чтобы сделать им лучше.
В кармане Евгения, сложенный аккуратно пополам (сначала совместить углы, затем, придерживая, заострить шов) внутри паспорта, лежал билет на одну поездку, туда. На розовой волокнистой бумаге внимательные иголочки выбили фамилию и разные цифры, наделив предмет свойством коллекционности. "Надо сохранить", - подумал пассажир, протягивая ценную вдвойне вещь женщине в синем. "Место тридцать два", - завершила осмотр проводница. "Два в пятой", - автоматически извлёк Женя, занося вещь в вагон.
"Они совсем не изменились в течение моей жизни", - обнаружил он, - "вагон и проводница". Ему казалось, что та же униформа лет двадцать назад так же изучала похоже сложенный билет, только рука его сжимала тогда не бездушную поклажу, а руку взрослого (тянулась вверх, а не вниз). И так же изредка отдувался состав, пугая спешащих отъезжающих, заставляя их взволнованно смотреть на часы, сначала наручные, потом вокзальные. И так же много вмещала составная часть, целых пятьдесят четыре человека, что было написано на табличке экспоната музея передвижений, у двери, на уровне молодых глаз.
Его худоба позволяла чувствовать себя подвижным в тесноте плацкартного путешествия. Отсчитав по четыре, он присел на нижнюю полку и огляделся. Радио шептало хиты его молодости, перестиранный занавес занавесок широко открывал мутную сцену, время действия которой было всегда ближе к сумеркам, словно напоминая пассажирам о старости, спирали матрасов, интересуясь телами на сегодня, свешивали с потолка ватные морды. Всё как всегда. Даже соседи – уже на месте – похожи на тех, так терпеливо сующих первому встречному ребёнку один невкусный леденец, словно специально рисковали опоздать на поезд, стоя в очереди за ним. Это была престарелая чета, навещавшая кого-то и возвращающаяся домой, прихватившая в дорогу мёртвую птицу в фольге и другие средства для храпа. Оставшееся место было найдено мальчиком в военной форме солдата, с угрюмыми и недоверчивыми глазами, сразу засунувшего вещмешок под лавку и придавившего её задом.
Купе молчало, причём чета молча ела. Состав нежно тронулся и солдат достал ёмкость с алкоголем. Женщина, наконец, попросила военного поменяться (возраст не тот) высотой полок. Он, забыв общение за год службы, молча переложил мешок в изголовье повыше. Проводница добралась до их каморки и собрала билеты. Чета взяла два комплекта белья и чай, Женя отказался от удобства чистоты домашнего сна, зачем-то предъявив в оправдание малое время следования ("что?" - не услышала женщина ненужную информацию) и в который раз нащупав точную сумму наличности; служивому не предложили вовсе.
Соседняя клеть, счастливая близостью санитарных зон, подала признаки весёлой жизни, и даже эталон неприступности, советская железнодорожница, был взят напором молодости - в придачу к билетам её наградили пахнущим дачей и протекающим на фирменный пол кулёчком ухоженной ягоды. И Жене, сидящему мимо движения запаха, показалось, что это не дача взятки должностному лицу при исполнении, а позыв доброты, не подпадающий под статью гражданского кодекса, но под несуществующий - товарищеский.
Должно быть, это и определило его профессиональную пригодность, что он рано и безошибочно научился разделять своды законов и их части: липкий от казеинового клея ковер безумно раздражал маму, но вселял веселье в папу; данные на утреннее пропитание десять копеек отдавались сильному мальчику (слабому в жениной математике), но это были какие-то разные дары; или вот смерть была ужасным, единственным, однократным событием, а он не ощущал влаги в сухих глазах и, когда красная двухметровая крышка стояла у них в подъезде и на кухне молча готовили в чёрных сковородках, хотел заставить её течь принудительно.
Кто-то кашлянул (чеснок), кто-то свысока глотнул (непонятно что), проявилась плотная картина темнеющего, каменеющего, как в сказке, снизу сном купе и его присутствие оказалось лишним. Желудок потребовал пищи однократно, но продолжительно, и Женя, испытывая странную неловкость жевать в присутствии чужих, тем более спящих, тем более стоя, вытянул из сумки съедоподобный свёрток, сумев невзначай прикрыть его ладонями от нетрезвого дембельского томления, и вышел в коридор. Ещё раз налево не унималось свежее купе, и он, заинтересовавшись отпечатками речи, чуя товарищескую статью, разглядел двух юношей и, задержавшись вниманием, трёх оставшихся.
Расположившись поудобнее на мусорном ящике, Женя стал равномерно перекладывать содержимое свёртка в себя, беря из разных мест. Пакет морщился, выгибался и даже чуть не порвался под жениными щипками.
Если высунуться в окно несущегося поезда, то воздух, нагнетаемый ветром, словно плотная среда воды: нечем дышать и трудно вращать руками. Тот, кто ел, вспомнил давнее, ещё детское ощущение полёта по насыпи, тоски по сорванной неосторожным взглядом назад кепке. Вспомнил, глядя на стежки проводов за окном, как хотел научиться стилю баттерфляй. А ещё ветер так сильно дул в лоб, что тогда, в детстве, волосы стали настолько жёсткими, что потеряли расчёску, а сейчас инерция их тогдашнего движения дала залысины.
Хлопала тонкая, закрывающаяся со второго раза, дверь, с которой никто не хочет спать, пропуская на проход проводниц, имевших какие-то дела в соседних вагонах, заставляя Женю притормаживать полный пищи рот и, не глотая, будто удивляясь, настойчиво смотреть в окно. "Что вы здесь стоите?" - могла произнести она, подумал он. Женя старался успеть умыть руки до того, как кто-то пойдёт делать то же самое, но, конечно, не успел. Он пожалел, что для жизни человеку необходимо столь много пищи и что на неё тратится уйма времени, когда достаточно было бы ввести в тело человека какой-нибудь биомассы и всё. Стекло двери зашевелилось с той стороны и в одно на всех помещение, запоминая отложенную фразу, прошла одна из соседок, радостная от оставленного общения. За ней, пристраиваясь в очередь, проник проспиртованный солдат. Тесное существование принудительно располагало к общению и пьяный произнёс:
- Ты чего ушёл сюда есть? Ты чего - без места? Вон же полка! Да не смотрю я - чего у тебя там, сам жуй свой харч, мне паёк дали - не отниму, не прячь! Домой везу - вдруг жрать нечего будет, а пока терпимо. В отпуск… Я в Чечне был… Дай закурить. А чего
н
е куришь? Чего молчишь, сказать нечего? Небось только в тире стрелял, пульками, бля, по зайчикам консервным? Чего жрёшь, дай хоть закусить! Откосил, наверное, в армии не был. Что? На сборах, месяц? Да ничего ты не видел! Я друга потерял - эти суки попёрли, он там остался, не вылез, патронов дали - только самому застрелиться, а они их рожают, что ли? Льют и льют, гады, бороды гнилые… Я смерть видел, понял!! Я всё видел! Чё они там, уснули, что ль? О, девчонка! Скока время?.. О-о, ушла! Одиннадцать! Да на хрен мне твоё время, дура! Да я таких, как ты… Ладно, пойду, отолью, а ты пока доешь, что успеешь! В казарме, кто ел под подушкой в одну харю, по ней и били! Ладно, хрен с тобой, живи один…
Женя выкинул остатки пищи под себя и ушёл наливать чай в другой конец вагона. Одноразовый пакетик стакана на три, эмалированная кружка. Для этого было необходимо пронестись мимо торчащих в коридор конечностей подобно детской игре "не коснись рамки" и для внимательности задержав дыхание. Никто не лежал к прохожему лицом; идущий видел лишь пяты баскетболистов, словно он был санитар в спортивном морге.
Термометр жёлтого самовара показывал восемьдесят градусов. Шедшая в своё купе железнодорожница задержалась около, озабоченно сказала:
- Охота из дому всё таскать?! Чего б не купить один стакан, ведь по три рубля всего! Нам же часть денег чаем выдают, мол, сервис оказывайте - деньги зарабатывайте, людей поите. А люди сами по себе, сами себе поезд! Скоро без проводниц ехать будете, какой-нибудь автомат поставят и всё. Да не перелей, смотри. Убирай потом за ним! Может, купишь ещё? Ну, как хочешь.
Скольжение двери обнаружило гостя женщины - доедавшего ягоду мужика, судя по взгляду, хотевшего запить её жениным чаем. Дверь закрылась. "Дай ещё!" - потребовал глухой грубый голос, Женя отвернулся к открытому окну.
Темноты в природе было уже намного больше света, проносились атрибуты безопасного следования поезда и мешавшие им ветви. Адвокат вдруг захотел оправдать своё существование, настал подходящий момент - одиночество среди какого никакого коллектива: четырежды суд присяжных заседателей, пять смеющихся обвинителей и он, последний в вагоне, пятьдесят четвёртый. В своём воображаемом слове он мог бы сказать, что он не сделал никому зла, а наоборот, помогает людям, что у него хорошая семья (нормальная), но почему, стоит лишь появиться осуждающей стороне, как все его доводы рассыпаются и их не слышно? Почему вообще он должен говорить? И кому? Но словно кто-то верховный распределил скамьи ещё до рождения и теперь суждено довести дело до конца, Женя чувствовал постоянное напряжение заседания, оправдываясь в несовершённом, ожидая перерывов, но уже не оправдания. И здесь его смирение взбунтовалось, ведь, если тебя обвиняют, а ты не виновен, то стоит пойти на преступление, хотя бы процессуальное. Он почувствовал себя молодым, ощутил ревность к этому бушующему островку, втиснул своё одиночество в их неравенство, добившись тождества, вытянул последний глоток. Ведь даже столбы связаны проводами, несущими что-то, а люди что, хуже?
+ 2
Это было на первом курсе института. После школы я разрывалась между финансовым колледжем и юридическим факультетом. В финансовом тогда был сумасшедший конкурс, и, хотя мне позволяли знания, рисковать не имело смысла. К тому же в будущем могла возникнуть перенаселённость профессии, а, значит, и ненужная борьба за выживание.
У нас в городе был один приличный книжный магазин, где всё по разделам и продавщицы грамотные, там я присматривалась к новой специальности, какую кафедру выбрать и так далее, чтобы не жалеть потом. Один раз стою перед прилавком, тогда ещё не было так, чтобы книжку самому листать, надо было продавщицу просить показать, так вот, стою, листаю введение во что-то, а рядом паренёк топчется, мелочь в ладони мусолит, из кучи в кучу перекладывает. Говорит кассирше, мол, давайте я вам сколько-то копеек потом занесу, честно. Ему, конечно, говорят, что не на рынке, что учёт по чекам и вообще не принято. Он раздосадовано отходит, ступая осторожно между линий узора на полу. Одет как был? Да уж давно дело было, не помню. Волосы неопрятные, непричёсанные. Ветровка того времени, серая с коричневым треугольничком на плече, вся в нитках. Мне как-то жаль его стало, видно, книга ему позарез нужна была, не для полки, а для души. Ну, у меня сдача оставалась, так я подошла к нему, дала сколько ему не хватало, говорю, возьмите. Он как будто не поверил глазам, механически сжал кулак с железом, даже не ответил ничего. Ну, я не стала его дальше смущать, вышла из магазина, а он уже чего-то там взял по математике.
Не скажу, что я слишком уж добрая, ну а чего не помочь человеку? Помогла, да забыла. А как пришла в сентябре в аудиторию, гляжу, тот самый парень из книжного, одет так же. Мир тесен, а город ещё меньше. После лекции оборачиваюсь - он на меня смотрит. Я ещё подумала, заметил ли он тогда, в магазине, откуда деньги упали, такой отрешённый ходил, обувь внутрь стоптана.
Оказалось, ещё как заметил! Я стала невольно замечать его взгляды. Садился на лекции всегда за моей спиной, ряда через три. Часто провожал до аудитории, слава богу, мы были в разных группах.
Я уж подумывала, не специально ли он за мной пошёл учиться? Бывало, в его сторону посмотрю, а он глаза тут же перебрасывает, как будто всегда мимо смотрел. Ему бы в актёрский.
Не скажу, что меня раздражала эта слежка. Всё было понятно. Я очень эффектна была тогда, да и сейчас не жалуюсь, мальчишки при моём появлении сразу начинали соревноваться в остроумии. Мне это льстило, но чтобы пользоваться красотой – нет, я наивная была, хотела серьёзных отношений сразу.
Ничего удивительного в том, что он влюбился в меня, не было. Это было даже честнее как-то, приятнее глупого флирта других. Мне было жаль его, но идти к нему навстречу, заводить знакомство я не могла, да и не хотела, ведь он не смог бы удержаться в рамках дружеского общения и мучился бы ещё больше, и меня бы замучил. А так, у него была мечта, то есть я, и всех такая диспозиция устраивала. И потом, это у него в голове кроме меня никого не было, а у меня была куча проблем, и учёба, и личные дела, кстати, тоже.
Я знала, что подойти ко мне он не решится. Однажды я опоздала на лекцию, села на свободную парту и ощутила его прямо за спиной только через полчаса. Не знаю, что было на самом деле, но только у моей скамьи поднялось кровяное давление и прорезался сумасшедший пульс. Когда я разговаривала с другими парнями, я ощущала десятикратное его внимание, что вот он стоит где-то рядом и ему больно и это меня немного сковывало, я начинала держаться более официально. Поймите, то, что я говорю, есть выжимка из первых трёх годов обучения, я не была зациклена на нём, это проявлялось только в аудиториях, у меня и без него было забот – полон рот.
Так бы всё и продолжалось, если бы не специальные предметы. Лекций вместе больше не было и он, наверное, понял это. И решился. На исходе третьего курса он обратился ко мне. Я сидела в читальном зале, ждала подругу, когда дрожащий голос сказал рядом: "Таша?" Это был он, прямо от книжного прилавка, в посеревшей курточке, из-под которой, сверху и снизу, испуганно выглядывал свитер. "Привет", - удивилась я, впервые услышав его голос, отчего человек сразу стал реальным, с температурой и запахом вокруг.
Он начал свой монолог. Он пять раз оговорился, что как долго решался подойти, что ждал удобного случая, что его зовут бесполым именем Женя. В его животе урчало, он не смотрел мне в глаза, я же разглядывала его. Это было лицо, ещё проходящее подростковый период, прямоугольное, но не волевое, а какое-то слабое, с тонким носом и перьевыми волосами. Как стало известно, он был влюблён в меня, давно мечтал стать мне хоть кем-нибудь, но также понимал всю тщетность своего чувства, мою для него недосягаемость. Только решив вырваться из своего порочного круга, он решил посвятить меня в свою т
айну
, чтобы растрясти душевное болото и осушить его залпом. Он так волновался, что забыл сообщить, чем был обязан своему чувству, не вспомнил наше с ним знакомство, словно быть влюблённым в меня – нечто само собой разумеющееся. Он действительно ничего не требовал и я удивилась такому благородству. Он закончил тем, что поблагодарил отдельно небеса и меня за то, что они есть у него, а у них есть я. Мне понравилась такая осмысленность его речи. Конечно, я не сказала, что давно всё про него знаю, это разбередило бы его и сбило с намеченного пути. Я разыграла удивление и немного понимания, сказала довольно общее спасибо и до сегодняшнего дня больше не встречалась с ним.
Правда, однажды, уже в аспирантуре, до меня дошёл слух, что тихоня из нашей бывшей группы вышла замуж за человека, по всем описаниям похожего на подсудимого.
+3
- Добрый вечер! - сказал Женя, появляясь в арочном проёме коридора, - разрешите присоединиться к вам, а то весь остальной вагон уже спит. – Он ненадолго облокотился локтем на подпятник косяка, отлакированный носками ступней. – У вас весело, а мне что-то спать не хочется. Меня Женя зовут, - сказал и сел.
- Да, конечно! - с какой-то готовностью, могущей сойти за иронию, но вместе с тем по-доброму, произнёс парень на этой же скамье, только у окна. От правосудия его отделяло две девушки. На противоположной лавке лежал другой и сидела третья. Они разговаривали и не подавали признаков внимания, скрытые недостаточной освещенностью. - Меня зовут Фаша, его Хаша, а это (он мягко разрабатывал сустав) - Лаша, Таша и Маша, - перечислил и замолчал вопросительно.
Женя понимал, что с пустыми руками в гости не ходят, но у него ничего не было и приходилось надеяться на оригинальность своих хозяев, так похожих друг на друга, заканчивающихся, в отличие от него, на первую алфавиту, за которой (оригинальностью) и пришёл. Молчание могло означать либо намёк на то, что он здесь лишний, либо великодушие ребят, дающих гостю право на создание своей атмосферы. Если первое, то и терять нечего, а если второе, то вместо гостинцев лучше пленить их своим нерастраченным внутренним миром, окрепшим и не забродившим.
Он осмотрел зал заседаний: пол купе был уложен четырьмя невидимыми квадратами со стороной в метр, а полкупе из них - телами, искусственное освещение было распято на потолке и умирало, в окно вставлена распорка - 56 том испанца Кастаньета.
Фортуна заняла его сторону и, понимая сложное положение ночного гостя, парень рассказал, что вот они едут на строительство БАМа, что в период всеобщего упадка духовных способностей нации как никогда полезно лично участвовать в чём-нибудь масштабном, а если это вдобавок смиряет тело и платит зарплату, то признаком выздоровления общества следует считать перенос столицы в средний часовой пояс страны, считая от Гринвича, то есть подальше от этой денежной инфекции. А он (ты) куда?
Женя пожалел, что его молодость прошла между негою шестидесятников и пеклом девяностников, что они передали друг другу эстафетную палочку действия, минуя его, разминающегося на бровке. А у него тогда были ужасные спортивные трусы: однажды мама принесла их с работы, где всякому было место, и сказала "примеряй". Что за ужас! Они выглядели как обрезанные украинские шаровары, от жёлтой полоски на синем фоне терялось сознание, но главное! из-под них, если чуть наклониться, было видно исподнее! Он уходил на самую крайнюю беговую дорожку и стоял там, в изгибе, не в силах оторваться от взгляда на него со стороны. Вот и сейчас он был в жёлтую полоску - фонари полустанка сквозь зелёное наваждение за окном. Но, в конце концов, он старше всех в купе, а они - ребята, сразу видно, хорошие и не знают ничего про стадион, и что, наоборот, если он будет вести себя уверенно, то снищет их расположение и вроде как сам станет хорошим - и так, и так выгода.
- Я - адвокат, - сказал адвокат, - еду разводить супругов. Представляете, интеллигентные люди, а всё без проблем не могут. Муж просит защитить его интересы, имущество всякое от жены, которая мало того, что детей не родила ему, так заставляет к себе в город, где прописана, тащиться. Дело плёвое, я уж вижу, да деньги им заплачены. Говорит, раз ты из моего города, за родного мне будешь – не предашь.
Он, конечно, приврал. Обстоятельства были ему известны лишь со слов несчастного мужа, время до командировки он был занят своими делами и хотел надеяться, что всё решится скоро, ограничится делением на два без остатка, что ознакомиться со скудными материалами дела он успеет хотя бы перед заседанием, для чего достаточно получаса.
Рядом с собой он узнал возлюбленную заспиртованного солдата. Как её имя-то? Как назвал её парень? Таша? Линия освещения прошлась по её лицу сверху вниз, следом прошёл женин взгляд и… не может быть… Так, трогая рельеф краски на обочине тарелки, ложась в неё слепым бройлерным цыплёнком, вспоминаешь девчонку в столовой пионерлагеря, сидящую напротив, смеющуюся тебе в глаза, не смеющие(ся) подняться, бесконечным циклом читающие "Общепит"; и только раз ты заслужил её благосклонность, когда на спор запил компотом полную солонку, стоящую в центре стола. Так на очередном тестировании решение последней, самой сложной, оставленной напоследок задачи приходит, когда преподаватель уже начал собирать листы решений и ждать больше не может и вырывает у тебя из рук целый балл мозгового шторма.
Тогда, в своей тесной столовой, он не обратил внимания, но сейчас его точная до каждого дорожного знака память, помнящая все прочитанные им статьи наизусть, совместила два имени, подняв из своих хранилищ в читальный зал пыльное равенство. В довершение к этому освещение легло на попутчицу таким образом, будто ладони пытаются и никак не могут сдуть полый матрас, выпятив такие её черты, что теперь всё остальное в её лице подчинялось этой кучке заговорщиков и Женя был не в силах вернуть сознанию образ незнакомки хотя бы пятиминутной давности.
Находясь в крайнем замешательстве от произошедшей в неподвижном купе перемены, он следил за каждым движением Ташиной тени, отчаянно пытаясь перевесить память назад, как в детстве, сидя на перекидной доске и болтая ножками в пустоте напротив присевшего пивного отца. Пойдя на уловку, Женя попытался переключить внимание с новорождённого белого бычка на что-нибудь другое, что было под рукой, но, осмотрев вещь, он возвращался и находил то же животное, от прошедшего ничтожного времени только окрепшее. Осознав невозможность не думать о соседке, он нарочно стал смотреть на неё и вспомнил (за полосками света – сверху вниз) модную когда-то укладку волос, уголок, режущий дольку глаза, лёгкий наклон эмали тех зубов, какие любят рисовать зайцу, бугорок косточки-ключицы, выступающей за растянутый, но в пределах, ворот, сосчитал небольшие груди, ощутил, сидя вчетвером на лавке, стройность фигуры. “Этого не может быть”, - прояснилось, наконец, у него в голове, - “чтобы Космос дважды одинаково сгруппировал молекулы в одной части Вселенной”, уже заставив его (почти) полностью забыть, вытеснить самое живое впечатление, единственный, как казалось когда-то, смысл этой жизни за её, Вселенной, границы и так подло, как ни в чём не бывало, подсунуть воскресший клон воспоминания так вот неожиданно, чтобы сразу касались бёдрами, чтобы предоставить самое веское доказательство в и без того безнадёжном д/теле.
- Мне всегда было интересно, как чувствуют себя люди во власти земного закона, - предложил Фаша, - принципиально убогого по сравнению с кармическим. Как они вообще решают этот конфликт? Или они его не чувствуют или вытесняют, научаясь не замечать. Возможно ли примирение, а?
- Ну как! Понятно, что человеку необходимо кушать, - Женя сразу перешёл на молодёжный сленг, - но можно же обойтись без нарушений, в конце концов от человека не требуется слишком многого!
- Я думаю, в человеке системы правосудия происходит разделение, своего рода многозадачность - ответила Таша, - в разно
е врем
я действуют разные законы, приравнивая материалы дела к накладной, а пейзаж за решёткой – к Эрмитажу.
Её голос! Нежная модуляция несущей её молодости совпала по фазе с акустикой плацкартного зала. Размеренный перестук колёс. Плавность малой скорости. Неожиданность ассортимента торговок, уже швейцарящих у двери вагона, ещё не успевшего остановиться, но уже проигравшего им в беге. Если бы Женя был глухим от рождения, этим голосом с ним бы (нимбом) заговорил Саваоф. Призыв атомного ледокола “Ленин” (других он не знал) к айсбергу.
- Да, - согласился Фаша, - примирение возможно, к сожалению, лишь в ущерб душевному здоровью, ведь нравственная сфера судьи в мантии кастрируется на судью в облаках.
- Поцелуй меня в пах! – отозвались с другого угла, Хаша, кажется.
Оказавшись в ситуации глубокого раздвоения реальности во времени (одна треть прожитого) Женя не мог следить за темой разговора, затронувшей самую суть его профессии, и, как не хотел сконцентрироваться на ответе, пропустил их дальнейшее обсуждение темы, комментарии и выработанную для него пилюлю, увязнув в трясине молодости. Подобно никак не сбиваемым корабликам в фойе кинотеатра, в иллюминаторе поезда стали проплывать кадры кинофильма, который, как ему начало казаться лет с шести, снимают о нём самом, безжалостно фиксируя самые те моменты, которые он не хотел, чтобы кто-нибудь видел. Казалось ему тогда, что существует раса существ, живущих в дробь ![]() раз больше его самого, выходящих из зала, нахлобучивая помятые шапки на равнобедренные головы, возвращающихся к каким-то своим делам уже посмотрев его смерть и выбросив скатанный в трубочку билетик. Сейчас бы они глазами юноши смотрели завязку истории, и многим стало бы интересно.
раз больше его самого, выходящих из зала, нахлобучивая помятые шапки на равнобедренные головы, возвращающихся к каким-то своим делам уже посмотрев его смерть и выбросив скатанный в трубочку билетик. Сейчас бы они глазами юноши смотрели завязку истории, и многим стало бы интересно.
Фаша продолжал излучать мозговые импульсы, говоря, – “интересна судьба малых наций. Знаете, мне это напоминает О. Генри: Боливар не вынесет двоих. Проблему перенаселения решает культурная хунта, пристреливая остаток. Россия – сырьевая база, Африка – радиоотходная, Азия – дешёвая рабочая сила. В мире победила антигуманная установка, такая махина на ста колёсах, поливающая медными монетами в лоб не умеющих с ней обращаться людей. Причём работает она автономно, как зараза, её достаточно только придумать. Вот у меня вопрос – возможно ли капнуть на её смазанный механизм водичкой для образования ржавчины или на Земле уже наступила засуха?”
- Гололёд присыпали, сволочи! – это Хаша.
- Я думаю ты преувеличиваешь, Фа, просто каждый берёт на себя ту задачу, к которой предназначен, - Таша опять была заинтересованнее всех, - ведь их исчезновение означает крах остальных частей целого, поэтому с необходимостью заработали механизмы равновесия. Уже полно пунктов обмена ценностями.
- Но оправдает ли, если конечно есть, такое существование боженька? Почему он допускает гиперинфляцию?! Темпы их смертности смеются над рождаемостью. Нет никакой биологической защиты, даже динозавры вымерли!
- Не преувеличивай. Первые первые умрут от контрацептивов, подойдя к воротам Санта Патрика с другого столба. Они теряют позиции, расслабившись килокалориями, вырастив травоядное поколение, не видевшее мяса. Неужели не видишь, как прибавил Китай, объявив джихад трусливому белому цвету? А ты как считаешь? – она заметила скованность гостя.
- Я? Я что-то задумался… нет, ну если говорить конкретно по фактам, то…
- Да, кстати! – Фаша явно хотел разговорить гостя, перед которым, может быть, и выделывался, - ты удержишься с Ташей на стороне защиты или составишь мне компанию обвинения?
- Я, это, покурить схожу, давно не курил. – Женя поджал лапку к нагрудному выпирающему карману и слегка привстал. Всё очень характерно.
- О, ты куришь! Я с тобой схожу тогда, а то Фа разошёлся не на шутку, – единственное её отличие от воспоминания обернулось на пользу Жене, так что в некотором смысле существующая Таша была лучше утерянной когда-то.
Несмотря на кажущийся рост человека, слабость не может исчезнуть из него вовсе, медленно зарываясь в песочные годы его жизни, касаясь, прежде всего, воспоминаний, становящихся хрупкими как кость. Можно пронести впечатление через всю жизнь, даже скорее не суть его, а ссылку на возможность снова пережить отложенное, как будто оставляешь на потом, пусть снова в пионерлагере напротив своего смущения, самую вкусную мокрофрутину на донышке стакана, съедая её с тем же великим чувством, с каким глотает убийственную пилюлю разведчик, спасая Родину, и всё это ещё успевает связаться с сидящей напротив, ещё оба слишком маленькой, чтобы вообразить тугой инжир её губ. Несёшь, боясь приблизиться к памяти, полагая прожить отложенное за пять минут до смерти, словно открыть собравшимся тайну спрятанных тобой сокровищ, отступая перед так часто подкрадывающимся порогом сознания, вытягивающим всё наружу, перед консервным ножом, съедающим воспоминание раньше времени, стирающим как резаком музыку по бокам борозды грампластинки, делая её безжизненной. Шило воздушного шара. И не замечаешь, что мир стократ напоминает тебе об упущенном, давая понять тщетность вечности земного, предлагая не обманывать время возрастом, но вернуться дядей в прошлое и поцеловать пыльное седалище сваленного за сцену, придавленного горном и сломанного стула.
Даже адвокат не устоял перед реальностью факта – он забыл свою первую любовь, вернее, так и не вспомнил её, перепрыгнув через тонкий, но мутный овражек с закрытыми глазами, вернувшись юнцом в книжный магазин, что-то теребящим в руках, не замечающим ничего вокруг, но она! она снова стояла рядышком, живая, беременная реальностью, греющая его теплом их вполне вероятного ребёнка, дразнящая “теперь-то ты не спасуешь?! Заметь меня! Тебе опять семнадцать, нет ещё труднопроизносимой жены, мягких “е” детей. Ты незаметно прыщав, худ и растерян, ну так сделай шаг ножкой, скажи “агу” спасиба, заставь маму первый раз не сменить пелёнки своим криком. Я тебя не слышу!”
За это время парочка успела только пройти в тамбур, где звуки стыков образуют стыки звуков, а в метре от них зевает машинист, изредка раскачивая пальцем в порядке их появления в кабине вымпелы, мордочки и другие тренажёры хрусталика (даль – близь), эти шоры для глаз, которым весьма удивляются работники МЧС, но всё-таки приносят детям кое-что с работы.
+4
Да и сказать-то нечего. Вроде как по ошибке присутствую. Ну, если просите, то не утаю, расскажу, чего таиться. Хотя, вроде бы, какое я имею отношение к нему? Так, неявное что-то, а поди ж ты, третий раз приходится пересказывать.
Я машинистом давно устроился, прямо с техникума пошло-поехало, сначала спецкурсы, потом помощником у Мальцева, Василия Александровича, научил меня многому старик, а уж как помер человек, то мне его маршрут достался. Не то чтобы очень сложный, но завсегда ответственный, потому как людей возить – тут не опоздать, не проспать никак нельзя – сам себе уже вроде как не принадлежишь. Это не электрички водить – стоять в последнем тамбуре и кнопку отправки давить, смотреть, чтоб на перроне кого не забыть – а в тягачах разных, а как подрастёшь да поумнеешь, так покрупнее доверят, ВЛ10 называется – думаю, от Ленина произошли, там два вагона, имя и фамилия, - в таких-то махинах через всю страну людей протянуть, чтоб аж часы переводить забывали. Не пробираться мимо пьяных рож, спотыкаясь об остановки, а смотреть вдаль, куда деловой люд везёшь, что сделать для них можешь. Трогаешься плавно, чтоб не разбудить, рассвет за них встречаешь.
В тот день заступил на дежурство как положено. Подогнал тепловоз, его к вагонам прицепили; ещё дождь накануне прошёл и шпалы с новой силой смолой запахли – люблю я этот запах, так уж сильно, что порой кажется, что меня на дрезине начали – век бы нюхал, как нутро мамкино. Тронулся; перегон у меня в триста с лишним километров – несколько часов без передыху, в полпервого заступаю – и до середины тёмного времени суток. Это значит, выспаться
днём на
до, так сказать, подготовиться на работу. Туда еду – дома сплю, обратно – в служебном помещении, привокзальном. Так вот, дома, значит, а дома к жене родственники приехали, на день буквально, проездом, сто лет не виделись. Как не встретить? Ну, стол как полагается, то да сё, торт даже был. Просидел с ними уже два лишних часа, чем обычно спать иду, а квартира маленькая, двухкомнатная, дверь фанерная, вибрации звук только усиливают. Сто грамм внутри ворочаются, заснуть не дают, жена в мою комнату за фотографиями на цыпочках шастает, за каждой. А чем тише идёшь, тем сильнее скрипит! Это ж физика!
В общем, почти не спал, в полночь оделся по форме и на станцию пошёл, аспирину с под крана запил, да в кабину. И всё как-то сразу не заладилось; мелочи, конечно, а в целом – на душе погано стало. Голова прошла, на изжогу перекинулась только, карман кителя обо что-то порвал, да ещё на боку машины кто-то по саже матерным вывел. Повёл маршрут и через часок меня в сон клонить стало. Ну, думаю, не продержусь, стал головой трясти, ритм каблукать, мелодии, какие помнил, вспомнил. А темно вокруг, фонари ночниками виснут, песни кончились. Думаю себе, не к добру всё это. Думаю, а сам в полотно уставился: две бесконечные параллельные кривые, между ними шпалы мерцают; и вот я начал разгадывать, куда рельсы, змеи эти влюблённые, поведут, влево или вправо. Понимаю, ребячество, но так меня захватило, азарт какой-то проснулся, что я почти слился с землёй, как горнолыжник стал флажки обходить и уже вроде как я сам рельсам приказываю, куда сворачивать, проседаю почву так, что они как вода в неё скатываются. И чувствую, что давно пора бы дню наступить, а темно по-прежнему. Что такое? Вверх смотрю, а я в тоннеле еду, гребешки сводов меня причёсывают. Но тоннелей на моём пути быть не должно, точно помню! Да и нет таких длинных шахт, мы же не на Кавказе. Смотрю, впереди просвет обозначился, ну, думаю, всё в порядке. Однако это оказалась платформа, битком набитая людьми, они стояли с двух сторон, лицами ко мне, и были одеты непонятно во что, не одежда, а вроде как тела шелушатся. Думаю – в метро случайно свернул, диспетчер напутал что-то, только метро немного странное, тусклое какое-то, грязное, иностранное, наверное, и остановиться невозможно – на приборной панели одни лампочки мигают, как управлять, не знаю, но беспокойства никакого нет. Еду дальше опять в темноте, только вдруг рельсы ветвиться стали и тоннели расходиться в стороны, один, другой. Светлее стало, а откуда свет – непонятно. Своды поднялись, и уже не тоннель это, а пещеры настоящие, и всё шире и шире. Гляжу, а шпалы от земли оторвались, как самолёт какой, как только поезд держат, но, видно, крепко там всё сделано, на совесть. И путей таких много стало, словно хвосты салютного снаряда в воздухе переплелись, все разноцветные. Стен и пола уже не видно, лишь рельсы вокруг, а по ним другие поезда показались. Засмотрелся на красоту такую, не заметил, как по моему пути впереди что-то движется. Пригляделся, а это человек ползёт. Непонятно, где верх, а где низ, так он руками и ногами перебирает, словно по лесенке лезет, и оглядывается постоянно, даже вперёд не смотрит. Заметил меня, убыстрился, а сойти некуда, везде воздух, так он что рассчитал – полез под полотно и повис на руках на одной шпале. Думаю – слава богу, я-то не волен делать остановку, так хоть он жив останется. Пронёсся мимо, оглянулся посмотреть, как он там, а в рельсах дырка, зуб выбитый, одной шпалы нет, видимо, плохо держалась, а тут такая встряска! Я даже не понял, куда он делся, в какую сторону полетел. Тревожно мне за него стало, думаю, хоть бы на другом вираже поймать его, но не видать было. Такая тоска взяла, даже свет радовать перестал. И тут скрежет! Словно рельсы сужаться начали и я своим поездом им в распорку вхожу. Запахло горелым металлом, как при экстренном торможении, вокруг потемнело, какофония такая, будто змеи сошлись и трутся друг об друга, дерутся на смерть. Смотрю, впереди красный семафор горит и диспетчер по громкой связи орёт на меня благим матом. Заснул-таки. Минут пять спал, не больше, а такое снилось, что сон как рукой сняло, два дня после этого спать не мог.
До сих пор не понимаю – по какому делу меня таскают – никто же не погиб? Мало ли, чего присниться может, подумаешь – похож, а своё я получил ещё тогда – мне выговор влепили и премию удержали за два месяца вперёд. Видать, нечего родниться с кем попало, от них и наберёшься несчастий-то. Так что разрешите откланяться, меня ремонтная бригада ждёт.
+5
В тамбур, где, наконец, достигнут тепловой баланс физических тел с природой, где пахнет женщиной, продавцом табачной палатки. Тамбур – культовое место поезда, манящее своей пустотой, своего рода преисподняя, откуда люди рожаются в вагон и умирают из него, буферная зона транспортировок. Цыганский табор состава. Любимый музыкальный инструмент – тамбур-in. С тамбура легче всего прыгать на ходу, кидая вперёд вещи и рассчитывая угол отражения, недаром стоп-кран непременно висит в тамбуре. Тамбурами скреплены друг с другом вагоны, не отдающие дань уважения своим границам, раздираемым пронумерованными конфликтами. В тамбуре всегда холодно: закон термодинамики. Если человек стоит в тамбуре один – либо он интроверт, тогда он смотрит в потустороннее окно, либо он прихорашивается. Если больше чем один – они выясняют отношения. Тамбур мобилизует психику людей, подобно зрительному залу. В тамбуре нельзя солгать.
Они сверили пачки. Господи, подумал Женя, она выбрала именно эти сигареты! Рынок переполнен, но она курит то же самое, что и он. Конечно, мелочь, но всё-таки есть в этом маленьком факте некое предназначение, непонятное даже ей, только одному ему, та мистическая чёрточка, обнажающая истинные размеры происходящего, связь времён.
Была глубокая ночь, в стекле окна мелькали точки одноэтажных щербатых, зачастую недостроенных и брошенных, зданий, тире тёмного леса. Таша молчала. Теперь от фашиного напора не осталось и следа и её лицо, не обязанное держать ответ, успокоилось, расслабилось, приблизившись к самому себе, глядело вниз и успело выкурить полсигареты. Женя не торопил затяжки, стараясь идти вровень в бегах на угольках, он старался постичь тайну своей привязанности к этой женщине, но неожиданно пришедшее чувство расплескалось далеко за края бочонка разума, и, как он ни старался сосредоточиться, связка любых, хотя бы двух, мыслей расходилась, как только Таша обращала взгляд в его сторону, готовая вот-вот заговорить. Глядя на совершенно настоящую Ташу, он пытался свести в единый кодекс все статьи влюблённости, не унимающуюся дрожь не очень молодого тела, и нащупать истоки своего к ней внимания, от поиска которых, неожиданно для самого себя, начал вспоминать, казалось, совсем не относящиеся к делу подробности.
Спросив себя первый раз о значении жизни, он решил, что каждый рождается зачем-то, не в смысле овладения профессией или заполнения граф паспорта, а в том, что, если их спросишь, зачем живёшь, они ответят действительно про себя, про своё существование, без всякой демагогии о всеобщем благе, и воспитание детей будет нужно лично им, а не детям, и продвижение по службе необходимо не промышленности, а жене. В их ответах чётко, как если водить простым карандашом по накрытой бумагой монетке, проступит их особенное “Я”, то, чем все они сталкиваются, встречаясь. Это “Я”, проявляясь, сообщает своему обладателю как поступить во всяких обстоятельствах, делает устойчивым перед миром. Но теперь, в прокуренном тамбуре, он не удовлетворился выведенным на тот случай, если кто спросит в умной беседе что-либо подобное, ответом, и неожиданно для себя понял, что ощущал себя цельно, не сомневался во внутреннем чувстве только на первых курсах института, а именно – по отношению к пропавшей Таше. Вот эту самую благодарность он неожиданно захотел возвратить ей, то есть самого себя, ведь она дала ему возможность почувствовать радость мира, его безграничность и осмысленность. Но дальнейшее раз
мышление п
оставило его перед вопросом, как же впредь существовать без ответа, если кто поинтересуется? Почему же так вышло, что столь распространённое явление, как самочувствие, обязанное быть хорошим, посетило его лишь единожды, да и то в прошлом, заставив, как теперь оказалось, разувериться в том, что раньше он считал для себя навсегда решённым.
Родители. Были очень добры к нему и друг к другу. Он был их единственным ребёнком, поэтому в доме никто ни на кого не кричал. Они, что называется, были законопослушны и, если бы имели сбережения, обязательно платили бы налоги, возвращая состояние на место. Они вели тихий, даже очень, образ жизни, на который соседи никак не могли пожаловаться. Выходили только на работу и воскресную прогулку, скопили два шкафа книг и повесили вытяжку на кухне. Но ведь такой редкий мир в семье не может быть источником несчастий, думал Женя, это, наоборот, то, к чему многие стремятся всю жизнь и не могут достигнуть. Такую свободу и понимание, какие они дали сыну, должно ещё поискать. Мама, милая добрая мама, сохранила стройность фигуры и тонкость души, переживала по поводу и, как говорится, без повода, освоила книгу кулинарных рецептов и баловала ими. Она отдала сыну всё и жила с некоторых пор его проблемами и заботами, а на вступительный экзамен даже сшила ему брюки с низким набедренным карманом, какие потом через несколько лет стали носить все мальчики. Мама своими тонкими руками, которые не брал загар, содержала квартиру в чистоте, и то ли оттого, что всю грязь она впитывала в себя, то ли от непростой работы на работе её руки приобрели бледную мертвенную синеву вен внутри. Отец, хотя и обленился со временем и читал по вечерам программу передач на неделю, водя по ней карандашом, считался на своей службе хорошим специалистом, был доволен семьёй, а в прошлом смастерил с Женькой фанерный самолётик, какими на верёвочках сражались во дворе дети, кружа их над головами, и даже раз починил его после жестокой схватки с бомбардировщиком. Друзья детского двора растворились с возрастом в непонятных компаниях и кустарном предпринимательстве, куда их будущего заступника никто не приглашал, да и правильно – нечего заниматься непонятно чем, удлиняя список ошибок молодости. В институте он приобрёл славу одиночки, впрочем, довольно умного, чтобы сдавать сессии без проблем, отчего к нему часто обращались за помощью, иногда даже девушки.
- Эй, адвокаты, держите авокадо! – в проёме показалась голова, висевшая, как виделось, сама по себе, затем шутник бросил им по яблоку.
“Хорошо, что они так быстро меня приняли”, подумал Женя, “даже не верится, что нет никакого выяснения отношений”, он улыбнулся, “они, и она в их числе, хорошо ко мне относятся”. В подтверждение Таша сделала затяжку, какую показывают люди, не относимые к нервным курильщикам, глубокую, с прищуриванием на излёте вдоха, с приподниманием подбородка и медленным паровозным выдохом в неожиданную сторону, и спросила:
- Ты давно адвокат?
- Пять лет уж было.
- Ну как, выполнил пятилетку? – она защемила свободную ладонь локтем курящей руки, которую вывернула как наркологу, венами вперёд.
- Да! Я же говорю: пять лет отработал. А вы что, правда на БАМ едете?
- Ну конечно! Видишь на мне сапоги колодками и оковы болтаются. – Таша смотрела в окно, работающее на зеркало, в мочку вцепился серебряный зверёк.
- Я понял, ты шутишь, а куда вы едете? – сейчас бросит сигарету, тогда скажет, подумал Женя на её молчание. Но Таша не расслышала:
- Прости, как тебя зовут, я не запомнила?
- Женя.
- Слушай, Жень, а какой сейчас доход в суде? Ты не подумай ничего такого, я просто хочу понять, что в стране происходит. Вот… сколько ты получаешь?
- Я нормально получаю, - он не хотел говорить о семье. – Мне хватает.
- Да ты завидный жених, при случае защитить сможешь! – она вроде иронизировала, но глаза остались серьёзны, и Женя, попав под неприкрытую лесть, задевшую его мужественность, не смог ничего ответить.
Они пронеслись мимо освещённой фонарём фермы, на ступеньках целовалась парочка людей, рядом пасся тёплый и сытый мотоцикл.
- Слушай, а как тебе Фаша? – спросила девушка.
- В каком смысле?
- Ну, что он собой представляет. Просто ты, как мужчина, можешь сказать больше. Я его тоже не долго знаю.
- Который лежал напротив?
- Да нет же, тот придурок полный, юродивый какой-то, всё время ржёт. Другой.
- Это который говорил? Ну что, мне понравился, умный парень, на слово не скупится – адвокатом бы смог. А что тебя конкретно интересует?
- Да нет, ничего. Проехали. – Таша достала пачку, потом из неё, Женя уже держал зажигалку. Она склонилась к огоньку как мадонна к младенцу (губы к свету), только вбирая его в себя. – Ты из Москвы?
- Нет, я из города поменьше, южнее, в Москве проездом – прямого сообщения нет. Знаешь, у нас такие сливы растут! прямо на улице и спелые, – удивил Женя.
- “Падхади, пакупай”, но весы не проверяй, да?
- Зачем? На улице растут – бесплатно. А ты откуда едешь?
- Из Москвы еду.
- А куда?
- Фашка экскурсию обещал общаге, говорит, интересно там, дня на три, мы согласились. Домой не хочется ехать.
- Послушай, что за имена у вас странные, такие бывают? – докуривался Женя.
- Что я им, мама? Откуда я знаю! – её раздражали вопросы без последствий. – Таша – по-моему нормальное имя, в словаре посмотри, если не слышал.
Благодаря лишней голове в росте, Женя рассматривал Ташу свысока, во что она была одета (лёгкие кроссовки, тёмные джинсы, какие-то браслеты, вроде бус, на запястье, часов не было, свободная тёплая синяя кофта), как она двигалась. Ворсинки на шерсти, облепившие любимую, те, что покрупнее, нестерпимо хотелось с тихим треском оторвать от её тела, чтобы ей не носить лишнее.
- После сигарет аппетит просыпается. – Таша, казалось, остыла, и была в приятном расположении, - сейчас бы перекусить.
- Я смотрел путевой лист – скоро остановка, давай выйдем наружу, там наверняка продают что-то, - обрадовался продолжению вечера Женя.
Если замереть невидимкой около парочки, то они сорвутся с места, уносясь вперёд, а взгляд остановившегося промчится спиной по всем спящим вагонам, пробивая двери и тела, с болью и свистом инерции вырвется из поезда и, глядя собой на удаляющийся тамбур хвостового вагона, останется посреди тихой и мёртвой ночью природы, паря над рельсами, различая звуки микрожизни в почве, но всё же медленно вращаясь вокруг полярной оси.
Там же, в унёсшемся вагоне, в тамбур вышла проводница, сказав “подъезжаем к станции, стоянка 10 минут”. Они засунули огрызки яблок в пустые пачки и выбросили их в уже вкопанные в перрон урны.
Машинист-сменщик, подгоняя тепловоз, здороваясь с только что приехавшим, видел, как он (Евгений) подал девушке руку сойти с подножки, так как высокой платформы здесь не было, куда направились потом – неизвестно, в окно он не глядел, потому что был испуган поведением своего товарища и, подобно марсианину, пытался вступить с ним в контакт.
Собака, питавшаяся неизвестно чем, но жившая на станции даже зимой, откликающаяся на все запахи, от природы ничего не могла сказать, но видела, как девушка присела перед ней на корточки и сказала пару вкусных слов, а молодой человек, пахнущий своим присутствием, глядел ей в рот. Слов собака, естественно, тоже не разобрала.
Наталья Ивановна, продавщица ночной смены ларька, вскормившая собаку, заметила их ещё издали, причём он оживлённо беседовал, а когда подошли вдоль поезда, купил им по два шоколадных батончика, разных, и по пиву, которое в просторечии “сисочки”.
Сергей Степанович, высыпающийся только в поезде, напоминавшем ему люльку, играл с соседями в карты до потускнения и, оберегая глаза от прямого попадания вольфрама со станции, которого мало ему на работе было, отвернулся к стенке в тот самый момент, когда мимо его окна кто-то прошёл назад, о чём (повороте) так никогда и не вспомнил.
Митенька, запертый проводницей в клозете, что хотел проверить нарочно, привстав на сиденье высунул голову в приоткрытие окна и, обрадовавшись, что бредущая паро
чка не хочет
замечать его, поравнявшись с ними выкрикнул открытое накануне матерное слово, тут же присев и удовлетворившись. Что обозначало то слово – он пока не знал.
Уставшая на оставшуюся жизнь проводница, которой не хватало только бегать за ушедшими по перрону, закрыла, наконец, за ними дверь, сказав, что в следующий раз они пешком пойдут, раз никто не торопится, и, даже не заметив пола извиняющихся, ушла расправлять собой на себе мятую форму.
Больше их не видел никто.
+6
Если спать в поезде вам мешает опасная тряска и вы устали складывать однотипные узоры из ромбов лесочной сетки над головой, редко когда уцелевшей, или, наоборот, вы жаждете остаться одни в спящем вагоне, медитируя ночным невидимым пейзажем, то не поленитесь в следующий раз пройти мимо вдоль вдоволь откинутых столиков плацкарты. Там, устав от ожидания своих хозяев, которые, жалея их, дают им право последней ночи перед мусорным баком, останки дорожной пищи, испаряя остатки масел, черствея без съеденного сердца, разложили на последнее обозрение конечности своих корок, обёрток и прочих врагов человеческого желудка. Раз – брезгливо оставленные хвостики огурцов свалены в кучу к таким же впадинкам помидоров, недоеденные яйца из-под птенцов лежат ничком на своей скорлупе, словно каждый кушая кальций, теплеющее масло растекается по столику, стараясь защитить мусор от голодных бесчеловечных крыс, кусочки хлеба, прокатившись на колесе обозрения верхней челюсти, зализывают раны антибиотиками, рожая из воздуха радугу плесени; два – идёт немой спор трёх бутылок поменьше с одним зелёным богатырём, букмекеры – несколько тощих рыб, прижавшихся высосанными жабрами к отделу культуры той газеты, на которой они оставляют пятна; пять – разложившаяся на лунном пляже, попивающая желудочный сок, лоснящаяся от сытой жизни, лежит, кокетливо завёрнутая в тончайшее железо, обсосанная поклонниками до мозга костей, показывая худенькие ножки убогому окружению. Девять – два небоскрёба из-под пива в окружении одноруких кружек, прооперированный на изюм шоколад, багровый пакет, окровавленный ягодами, стакан, виляющий на поворотах пятью хвостами чая; в общем, когда парочка вернулась в своё купе, все, хотя и говорили, что не будут спать всю ночь, были настолько уставшими, что никто бы не проиграл, если бы заключил пари, что через десять минут все уснут, и только бы атлант кастаньета продолжал удерживать раму.
Один самый стойкий Фаша хотел бы выиграть у спорщика и, зевнув на фразе раза три, сказал:
- Вот ты, Хашка, говоришь, что не встречал более хорошей проводницы, и именно поэтому отдал ей половину ягод. А я так думаю, что найдя маломальский контакт с должностным лицом, ты наделил её воображаемыми качествами, обманывая себя и отвечая ей тем же, заискивая перед ней в желании понравиться ещё больше, а на самом деле ты кричал “тётенька, не бейте меня, вот вам сладкое” и был доволен тем, что теперь вроде как обладаешь её полномочиями, потому что она за тебя вступится. Выдал свой детский страх за благородство и щедрость. Гад ты, Хаша! Нечего тебе делать на стройке, разворачивайся отсюда ко мне спиной.
- И дудочку хочу, и кувшинчик! – произнёс Хаша всего четвёртую фразу, но кто-то вообще молчал.
- Да, - сказал из подошедших Женя, - может быть и я поэтому стал тем, кем представился, но теперь менять поздно, да и вы уже укладываетесь, но вас же пятеро, а где же будет спать последний?
- А вот напротив наша верхняя боковушка, мы разобрались уже, значит туда Ташка ляжет. – Махнул рукой Фаша и моментально заснул от дневного утомления, словно переключил себе потайной рычажок в заботе об отдыхе окружающих.
Купе, вагон, дальше весь мир тоже спал. Есть у спящих лиц выражения, происходящие из блаженного отдыха детства, когда, убежав от вóды, засыпаешь в том месте, куда спрятался, а тебя все ищут, иногда даже родители, но ты устал играть, устал физически, и снится тебе, что выбегаешь из убежища тогда только, когда водящий ушёл искать в другую, чем ты, сторону, и ничто не мешает выручить себя. Но такие выражения уходят вместе с детством, а другого не дано. Чаще можно встретить (потому что детей всегда меньше) те маски, которые сейчас наполнили весь вагон углекислым газом и не собираются останавливаться, которые видят один на всех какой-нибудь скучнейший сон, вроде обнаружения кровяных пятнышек на обороте кожи, натянутой ночью на глаза, и говорят, проснувшись с запахом во рту, что сны им вообще не снятся. Маски потому, что мышцы лица, не удерживаемые ночью отсутствующим сознанием, расползаются под действием глупой силы тяжести, расплющивая нос и оскаливая зубы, если храпеть в небо, и приобретают скрываемые человеком черты. Например, взрослый человек настолько не хочет жить (следствие – причина), что смотреть ночью на его спящее лицо, перекошенное вышедшей из-под контроля истиной, невозможно страшно, особенно долго. Это страх перед шизофренией, когда твоя личность, знавшая спящего, не признаёт личность собственных глаз.
Наблюдая метаморфозу головы только что говорившего, словно умирает заглавная часть тела, Женя защитился прикосновением к статичному объекту, ручке или поручню. Действие вернуло его в мир, где Таша, попросив раскатать матрас, вышла на минуту по делам, обычно совершаемым в одиночку. Интересно, думал он, раскатывая, некоторые древние верили, что когда человек спит, его душа выходит из тела и путешествует по всяким местам, но, если я сегодня засну в поезде, моя душа, вернувшись на полустанок, не найдёт уехавшего. Или я стану бездушным или древние ошибались. А может мне ничего не приснится и никто никуда не полетит, закончил он мысль. В матрасе оказались раскаты грома и первые капли ливня, о котором сообщит местная газета, как о небывалом, начиная с года рождения главного редактора, за чем следит самолично (справа от кроссворда), но поезд не примет стихию всерьёз и, умывшись, промчит дальше.
Он уже подоткнул простыню под бока матрасу, как повела когда-то мама и как потом стал делать весь мир, и начал шарообразить подушку, когда Таша, наконец, появилась рядом, расточая волшебный запах, не затухающий в пространстве и поэтому неизвестно откуда шедший.
- Ну ладно, - сказала она, - надо выспаться, а то совсем скоро вставать. – Забралась на полку и добавила, отвернувшись к окну, - спокойной ночи.
Женя пожелал в ответ и ушёл в своё соседнее купе, где вспомнил меню соседей, переваривающих сны поодиночке. Если откинуть голову, то станет видна Ташина спинка, не покрытая одеялом – и так жарко. Если уйти в конец вагона, пройдёт только десять минут. Если забраться к себе и спать, то этого нельзя сделать, ведь сна ни в одном глазу. Нельзя так просто расстаться с попутчицей, подумал он, да и она, судя по всему, расположена к нему, о чём говорит его тело, испуганное настолько, что не имеет права на ошибку. Даже то, что Фаша так бесцеремонно выселил Ташу, подсказывает не оставлять девичью гордость в одиночестве, а предложить посильную помощь, на которую Женя, чувствовал, был сейчас способен.
Единственное, что его останавливало, - память о прошлом, мешавшая решится на действия. Он ещё не знал как именно поступить, но то, что придётся коснуться спящей, было очевидно. Прошлое предложило на выбор несколько воспоминаний, общих неспособностью адвоката действовать уверенно, и, чтобы избежать очередной ошибки, он стал перебирать в уме смущающие моменты, прикасание к которым, как к ранке, заставляло тело вздрагивать.
В юности он не думал про общение с девушками, ему казалось, что, подобно остальному, это придёт в своё время, как пришли победы на олимпиадах и обувь из магазина. Но с гормональным ростом становилось всё очевиднее, что мама не сможет позаботиться о его личной жизни, не только потому, что сын мог считаться взрослым, но и потому, что сама не разбиралась в этом вопросе, приняв первое же предложение замуж. Женя понял, что должен обойтись своими силами, но совершенно не знал, с чего начинать, более того
, он страшно к
омплексовал, и чем больше думал над этим, тем сильнее. Он не понимал одноклассников, обсуждающих настолько запретные темы, что приходилось выскальзывать из класса, становясь нелюдимее, где его настигала бешеная зависть к ним, особенно если главный пошляк разговаривал с первой красавицей. Он припомнил себе два самых сложных года, когда не было сил сдерживать тайные, противные самому, желания, и он, каждый раз раскаиваясь, доставал спрятанные, найденные однажды газеты, стоял перед волшебным зеркалом, исполняющим желания, и рассматривал в бинокль улицу, но стекло вносило искажения.
Самое чистое воспоминание его молодости было связано с началом института, когда, преодолев крадущиеся фантазии, он посвятил себя ни о чём не подозревавшей девушке, ради которой был готов на всё, но, оказалось, не надо. Когда пришло время оставить юношеские грёзы и зарабатывать деньги, он забыл свои чувства, переключась на научную работу. Тогда же на него обратил внимание коллега – неприметная (беспредметная) мышка, которая медленно, но настойчиво, входила в образ его мысли; и нет ничего странного в том, что незадолго до защиты дипломов они поженились – их темы были схожи. Со стороны они воспринимались как профсоюз, так как питали чувства друг к другу только на работе, но совместное существование было наилучшим вариантом жизни и они понимали это. Даже нежности, отпускаемые противоположному супругу, оставались официально сдержанными, словно за ними кто-то подсматривал, а они раскусили глядящего, только не подавали вида, словно ждали, пока он сам придёт и подскажет, ведь никто не знал, как надо.
Теперь он стоял в метре от возможности наверстать упущенное, хоть и не полностью, но на сколько возможно, догнать то, что устало бегать за телом, запретное, но вдруг разрешённое, не то, процессуальное, что осталось дома с детьми и ничего не знает о себе, а новое, что где-то есть, но прячется за плотными стенами домов, за “как будто ничего не происходило” взглядами прохожих, у которого нет возраста, а у Жени был. Перед которым все равны от природы, но стремятся окутать тайной, выдать секреты, продать подороже. “Так не должно быть, чтобы жить без радости”, - подумал Женя. - “Что-то же должно быть радостью, где-то ведь бродит тень любви, в тени которой я буду мужчиной, а она – женщиной, где тела не думают, не накрываются, а радуются своей противоположности. Она, может, и сама не знает, что ей нужно, а на самом деле хочет от меня взаимности. Жаждет, чтобы кто-нибудь подошёл. Она, как и любая девушка, ждёт от меня самого сложного”.
Он отжался от двух полок вверх, стал ногами на нижние, достал предназначенную ему подушку и ловко (беззвучно) спрыгнул назад. Затем выглянул в крайнее купе, сосчитал закрытые глаза и повернулся к Таше:
- Таша! Ты не спишь?
- Нет пока, - прошептала, не оборачиваясь. – Я вообще неважно сплю.
- На вот, чтоб помягче, – положил в изголовье и осторожно, словно обладал неимоверной силой и мог повредить ей, коснулся плеча.
- Нет, спасибо, мне надо на жёстком спать из-за спины, – сказала и обернулась.
- Давай тогда накрою тебя, а то продует спину.
- Да, достань одеяло сверху, тут окно дырявое.
“Она сказала “да”! Конечно, сейчас самое тёплое одеяло будет готово. Своё надо дать, естественно! Сейчас. Уже вытаскиваю. Да спите вы, уроды! Так, Женька, главное держи себя в руках, ничего лишнего, но и ничего не бойся. Она не отдёрнула прикосновение, а это самое главное, мои расчёты оказались верны. Только бы не разбить давнюю мечту, только бы сохранить к ней хорошее отношение. Пусть мечта воплотится, а не рассыплется, но её мякоть будет приятной и длящейся. Ведь это должно быть праздником. Ведь что-то же должно быть им!”
Он быстро вернулся к ней, положил сверху одеяло и начал ровнять по телу. Она приняла. Теперь к голове, так, до шеи, легонько погладить волосы. Приняла. Теперь не думая, а то придёт сомнение, правую ногу на приступку и левую туда, к ней на полку, следом отставшую правую, ухватиться за поручень руками сверху и носками снизу, заламинировать её собой, вобрать её запах, ощутить возрастающее давление тела. Одна тысячная доля секунды, вторая, третья…
- Ой, что ты! Куда это?!
“Нет, нет, сильнее прижать, не дать вырваться…”
- Совсем спятил?! Псих ненормальный! Давай отсюда!
“Молчи, молчи, ты врёшь назло. Я не выпущу тебя. Ты же моя! Не вытолкнешь…”
- Да слезешь ты или нет?! Сейчас парней разбужу – почешешься у меня!
Окно держалось в раме крепче человека в поручнях и Жене пришлось уступить последнюю половину полки. Когда он ступил на землю Таша не обернулась, не сказала ни слова и, казалось, всегда спала. Стоять подле спящей было бессмысленно, гораздо лучше стало поставить дымовую завесу, и он ушёл в курилку.
Испугавшись поведения ночного знакомого, которое было бы принято в случае соответствия некоторым стандартам и могущее возобновиться, Таша решила не рисковать и сообщить о поведении гостя Фаше, несмотря на дымок обиды в его сторону.
В тамбур, потягиваясь обратно в сон и что-то соображая, вышел Хаша, и теперь Женя мог рассмотреть его получше: это был светлый сверху парень, крепкого, но несколько разболтанного телосложения, привыкший работать руками, а головой – смеяться. Он стал смотреть на Женю, видимо, не зная, с чего начать, а Женя не торопил его, прикидывая вероятный исход встречи.
- Тебе чего, места мало? – Хаша положил ладонь на плечо старшего, но скорее нежно, чем опасно. – Понимаешь, я не знаю, кто ты, может, маньяк какой-нибудь. Ты посидел с нами, время скоротал, но мы же не можем тебя взять с собой, да и у тебя дела. Ты должен понимать границы, ты же знаешь – есть законы. Если вот я приду к тебе в суд и стану сажать направо и налево – ты первый закричишь! Здесь то же самое, только хуже. Взял бы, спросил телефон, как это делается, дальше уж её дело. Всё должно быть по согласию, понимаешь? Давай так – ты идёшь спать сейчас и мы с тобой не знакомы, ладно?
Женя хотел было согласиться, ведь и ему с ними делать теперь было нечего, но в помещение вошли Фаша позади Таши, которая не ожидала быть не первой:
- А ты чего пришёл, больше всех надо?
- Я от шума проснулся, – опешил Хаша, - я за тебя заступался. Я подумал, что надо.
- Без тебя разберёмся – ещё бы весь вагон поднял!
- Так ты уже поговорил с ним? – Фаша будто избавился от ноши, - тогда все на защиту коек, поезд опаздывать не намерен.
Несмотря на нерешительность поступи, Женя получил от природы наблюдательность слабого зверька, сидящего под не спиленной елью и утыканного глазками, преломлённую эволюцией в боязнь хищных человеческих отношений. И если начиналась эта боязнь со страха засыпать в темноте, продолжилась приставанием неблагополучных парней в школе, то застыла в обороняющейся, но готовой ответить позе. Среди этих молодых людей он почувствовал себя лишним, словно они собрались бы тут и без него, словно он был поводом для давно назревшего выяснения их отношений. Почувствовав невнимание к себе, он успокоился и решил принять хитрое участие в разговоре:
- Может, я ничего не понял. Поговори со мной и ты, видишь, как Таша просит.
- Это бессмысленно, - отказал Фаша. – По твоему тону видно, что тебе повторять не нужно, разве только Хаша говорил с тобой о новинках видеорынка, а Ташка просто впечатлительная девушка.
- Я уже понял. А она тебе нравится? – решил сыграть Женя.
- Мне нравится дым над водой, рыба подо льдом, кормить с рук воробушков и буква Т на привязи, и не нравится спать вдвоём.
- Наверное, она хотела, чтобы ты разобрался со мной по-мужски. - Женя сделал шах.
- Ей приходится выбирать между галстучком и барсеткой. – закончил Фаша.
Таша прислушивалась к диалогу, стоя у двери, затем, демонстративно хлопнув дверью, ушла, оставив: “Уроды!” Женю обрадовало, как быстро он смог отомстить ей, ничем не заплатив за это, и его понесло дальше:
- Я тебя понял, мне она вовсе не интересна, просто скучно ехать стало, - это Хаше, и дальше, - а вот тебя я, кажется, задел лично – тебя не просили, а ты выбежал.
- Да ты что? Намекаешь, что я в неё вл
юблён? Она хорош
ая девушка, да. Мы просто едем вместе и я не буду ждать, пока ей станет плохо.
- А мне показалось, что она тебя терпеть не может, так что ты зря заступался.
- Ты ко всему прочему ещё и хам, да с чего ты взял? Она раздражена, причём из-за тебя, это понятно. – Хаша искал оправданий Таше, но не находил. - Мне с тобой противно разговаривать, если бы я мог избить слабого, я бы сделал это с тобой. А так мне мой сон дороже – надеюсь больше не увидеть тебя.
Погрустневший Хаша также ушёл в пенал вагона, оставив ухмыляющегося Фашу наедине с победоносного вида адвокатом, который рассматривал оппонента и находил с ним всё больше общего. Фараний оказался стройным, высоким парнем с притягивающим взгляд лицом, которое невозможно было остановить в памяти – настолько разные выражения и содержания можно было в нём найти. При этом оно светилось неизвестным источником энергии, употребляя её на перемешивание мыслей. Кроме того, он производил впечатление обеспеченного человека, не сам, так родители, и был стильно и неброско одет. При взгляде на Фашу Женя невольно и преданно улыбнулся, прекратив сдерживаться когда движение губ стало заметно, и доверился молодому:
- Я специально сделал, чтобы они ушли. Они начинали надоедать мне.
- Интересно, а когда ты и меня отправишь на место? Может, мне лучше сделать это самому? – и Фаша улыбнулся в ответ.
- С тобой интересно разговаривать. Можешь остаться. Я видел – ты сильнее их, а Таша, кажется, без ума от тебя. Вообще, быть первым это нелёгкая обязанность, но тебя она, вроде, не тяготит.
- На всё свои неоткрытые законы. Если из одного сосуда убывает, то в другой наливается, даже если они ничем не связаны.
- Я понимаю, но может быть и такое, что прибавляется в обоих сосудах, ты не додумался до такого? А я вот пришёл к выводу. – Женя понизил голос.
- Бывает и наоборот: как только в одном прибавится, из другого тотчас польётся. Посмотри на пятой странице. Есть платежи в кредит, а есть в рассрочку. Но самые частые – за наличные. Если ты почувствовал себя хорошо, то скоро тебе станет плохо. Что, если я нанесу тебе тяжкие телесные повреждения?
Женя еле успевал за игрой соперника, и на последних словах сначала задумался, но потом улыбнулся, так как не понял, но почти приблизился к разгадке фразы. И даже когда Фаша сделал два мягких шага в его сторону, игра продолжалась, но резкий выпад правой заставил реальность ограничить края улыбки красными штрихами. От неожиданности Женя не смог ничего противопоставить нападающему, да и не умел никогда, и пропустил второй удар под дых, отчего солнце зашло за сердце. Фаша бил играючи, словно кидал кубик всё время на шесть; досталось разным незащищённым частям тела, так что в итоге, весь перепачканный, адвокат скорчился под стоп-краном в надежде остановить сильнейшего. Всего через полминуты Фаша оставил Женю в одиночестве, чего тот и добивался, правда, не такой ценой, оставил гадать, где просчиталось его знание жизни и почему бивший не захотел нанести увечья при свидетелях.
В мире есть только две профессии с крепким сном – разведчик и космонавт, так как им разрешено клевать носом только по расписанию. Чего не скажешь об адвокатах – спят они из головы вон плохо, дела ведут кое-как и совершенно не могут хорошо выглядеть из-за душевных мук. И если, например, самый мелкий адвокат едет в поезде, то он непременно выйдет на самой невзрачной станции, какой бы глубокой ночью там ни оказался проездом.
Если посмотреть через щёлочку штор маленького дома станционной смотрительницы на удаляющийся поезд, то в закрытом окне неважно какого вагона наверняка можно увидеть только что проданную ею бутылку примерной жидкости с отклеившимися усами названия, уже сковырнутую сверху чем попало, а что она туда налила? так чем же ещё прикажете кормиться, вот даже занавески постирать нечем.
Теперь уже точно весь вагон спал, а он был спокойный и железный, несмотря на своих волнующихся жителей, одна из которых положила ноги на чужую подушку, отчего заснула скорее, а другой удивил бы спящего вояку, если бы тот не спал, вспоминая службу, темпами мелиорации, которые были неизменно высоки там, где ему не довелось служить никогда.
+7
Женя ощутил себя ребёнком, такого расстояния до пола, что будто ползёшь, опьянённый детством, и от этого спится легче. За плечами нет опыта жизни и человеку легко представить, что он ещё не рождался, голове нечего мусолить в поисках справедливости, находящейся на следующий день в каждом подснежнике (ржавый рублёвый моторчик от катера или высохший стерженёк). Младенцы так много спят, чтобы наверстать бессонницу старости, зная, что, по данным врачей, нужно проспать ровно треть жизни. Наполеон проспал до семи лет. Затем отключать сознание становится опасно, ведь никогда не знаешь, что произойдёт с телом в этом мире, уже заполненном дядями и младшими братиками. Или представишь, что во сне умрёшь и не заметишь этого, и начинаешь думать, как умрёшь не во сне, а это, оказывается, ещё страшнее. Например, тонешь метр за метром, но можешь пока терпеть и не вдыхаешь, и ждёшь, когда тело сделает это само, а тело управляется мозгом, то есть ты сам должен вдохнуть и умереть. Или, наоборот, ты хочешь стать космонавтом и должен вдохнуть, чтобы выжить, а воздуха нет, есть вакуум, то есть вдыхать нечего, лёгкие слиплись, тогда уже от тебя ничего не зависит, но как в таком случае приходит конец? А самое страшное, когда ты спал, тебя по ошибке закопали в землю как умершего: ты просыпаешься и не можешь ничего, тебе крайне тесно. Ужас именно в том, что нельзя перевернуться на живот, настолько мало под землёй места. Бессонница наступает в десять лет жизни, когда, желая обеспечить покойную старость, мальчик запугивает себя ужасами, чтобы не спать.
Сейчас сон пришёл к спящему как сморщенная девочка с эфирным платочком в ладошке, подкравшаяся поиграть с сознанием засыпающего. Пока Женя ворочался, он мог отогнать её, но она, настырная и бестолковая, ухитрилась накинуть платок и тогда силы стали неравными, худенькие её ручки закрыли его глаза, но не навсегда, и начали вытворять с ним то, до чего дошла её фантазия в полном своём одиночестве.
Приснилось, что идёт он по городу, и всё как обычно, только из людей никого совсем нет, и собак всяких, голубей тоже никого, даже ветра не чувствуется до такой степени, что странно, как в лёгкие что-то попадает. И несёт он цыплят, совсем тех, что однажды одного такого за пятачок ему купил отец на базаре, поигрались тогда и оставили торговке назад, и много несёт, что из рук прямо вываливаются. Отпустил он одного на глину, а тот побежал вбок и хромать начал, пищать, словно день за год проживает, и издох через шесть метров. И так жалко стало Жене птенца, что проснулся бы от горя, чтобы других не видеть, да не в ладу с собой был. И надо их деть куда-то, а то на руках не донести и на земле они не могут. Видит, окна открытые пошли рядом, думает, туда заброшу. Подходит он к стене, а окна по ней нарисованы, стена как гладь ровная. Вдруг видит себя за той стеной, только комната без окон, а он с желтками по рисунку обоев пущен, и вроде он там двигается, а узор от этого на месте стоит. Не удержал – выронил их по плинтусу, они разбежались бессмысленно в рассыпку, а он думает, хоть одного поймаю и спасу на руках, погнался за самым тёплым, но никак, хоть бы заковылял немножко – потом бы отогрел. Цыпа забежала на угол комнаты и пропала.
Идёт он дальше порожний и ему холодно, словно он оголяется пошажно, и окна стали с людьми рисоваться, смотрят прямо на него, иные пальцем кажут, и вроде нет их, а ему всё равно стыдно. И вот стоит он перед большой синей буквой “Ж” и около неё ход есть вниз, ступеньки вроде как одна выше другой, а получается вниз, он туда. Внизу подходит к нему проводница, говоря: “у нас сегодня тень сломанных турникетов, давайте по обязанности провожу”. И точно, вместо автоматов сидят его беглецы, только огромные в три метра и помешанные с
бульдогами. Она ма
хнула им своей жёлтой палочкой и они не сделали того, чего могли бы, наверное, съесть такими мордами. Провела совсем ничего до эскалатора и говорит, что дальше, мол, не могу, давай сам. Он ступил и поехал опять вниз. Дальше видит, лестницы наполнились людьми, только не люди это, а телефонные трубки с хвостами, вместо лица – перфорация динамика, значит говорить могут, но все молчат и все разных цветов, как линии метро, словно участники рекламной акции, от которых требуется умение перевоплощаться в предмет, чтобы обратно накопить на него. И вот доехал до дна, а там вместо станции – совершенно пустой лекционный зал, такой длинный, что даже всматриваться не стоит, и вместо кафедры – путь рельсов. Сел он на первый ряд и стал глядеться в зеркало переднего вида, только в нём ничего не видно, как с мороза внесли.
Забеспокоился он, отчего поезда нет так долго, начал в тоннель глядеть на провода и лампочки висящие, и очень долго глядел, а поезда всё нет. Тогда он спрыгнул на полотно и ушёл в темноту, потому что так быстрее будет добраться, а куда ему надо – он не помнит. И вот уже диск тусклого света, уменьшаясь, закатывается за поворот и лицо натыкается на что-то висящее, а это паучки схемы линий плетут таких же как они, только побольше, видимо, давно здесь поезда не ходили. Вдруг пещерка наклоняться стала, чтобы идти по ней легче, и всё больше и больше, и вдобавок сужаться, все ниши и ямочки исчезли – только голый камень чернеет. И тут свет сзади от фонарей, и гул поднялся; глядит идущий, а это метро дышит и надвигается скоро, вот уже железная пасть показалась, а в кабине машиниста – собака мечется, по рычагам скачет, скулит, наверное, да не слышно. Состав скрежещет, о стены трётся, и спрятаться от него негде и руки и ноги как в воде стали, двигаешь, а они еле слушаются, и чем ближе удар, тем медленнее тело, хочешь убежать туда, где поезд застрянет, но вязнешь сам.
Раньше он бы проснулся, но вместо яви видит, что он летит от столкновения вниз и приземляется на дно шахты, вроде как жив пока. Опомнился, поднялся, а он на крыше лифта едет, но уже вверх, а в кабине вроде как Таша замурована, поглядел вверх, куда движется, а там тупик, дом кончился. И стал он знаки ей подавать всякие, и кричит в щели и топает всем весом, чтобы остановила движение, но её там больше нет, есть только одна нажатая кнопка. И вот уже потолок близко, вот он касается кончика носа лежачего, затем носков ботинок, и образует равномерный тонкий слой, не имеющий общего с человеком.
Чувствует Женя, что утро близится, что сон слетает с него прочь, и вместо всего лежит глыба непонятно из чего и непонятно какой формы и какого размера она, только занимает она всё пространство, какое есть, а где то пространство и какой у него базис – тоже непонятно. Выходит он будто из глыбины и идёт прочь по пространству, удаляясь, и как ни обернётся, как ни посмотрит на неё подольше, она сразу качаться начинает, то вперёд, то назад, словно дышит, будто не из твёрдого произошла, а из упругого, будто к её ниппелю поднесли ничей рот и гоняют воздух из неё в неё. И вроде Женя уходит от неё, а то вдруг видит себя рядом с ней, то есть в пустоте есть тёмное большое и маленькое уходящее, и видит это много раз подряд, словно кочан раздевает, потому как непонятно, на каком они расстоянии, меньше одно другого или больше. И совсем почти не помнит, а скорее ловит уходящую в песок воду, совсем далеко постчувствует и не может уложить увиденное в хоть какие-нибудь образы, снится и тут же забывается, реактивно уносится воспоминание о том, как глыба начинает мерцать, то позволяя ему идти прочь, наблюдая себя со стороны, то играючи перемахивая протяжённую пустоту, обратно становясь всем, вбирая и ушедшего, и его же наблюдателя в свои недра, как словно ничего и не происходило, и так же запросто возвращая его на дорогу в то же место. И когда она снова есть всё, кажется, что это он – глыба, потому что он в ней, и не может выдержать своего объёма и того, что кроме него ничего больше не существует, что в нём ничего больше нет, и так страшно быть одному, что рвётся опять назад в первую картинку, где что-то ещё можно разобрать, где он будет ожидать нового цикла превращений. Но вот мерцания становятся относительно чаще, потому что времени в ней тоже нет и непонятно, сколько можно провести в ней мгновений, настолько чаще, что слившийся чёрно-белый цвет смеси превращается в серый оргалит перекрытия вагона, подъехавшего к конечной станции назначения.
Проснулся Женя оттого, что весь вагон, остановившись, взялся за тюки, чтобы выйти наружу, а он остался потому, что под ним не было белья и его незачем было будить. С минуту соображая, щурясь от резкого утреннего освещения, он спустился, раскачиваясь, вниз и сел на лавку. Голова болела невыносимо, хуже выпитой им водки могло быть только совсем уж неизвестно что, какой-нибудь откровенный яд, мутило его страшно и он был ещё в достаточной степени пьян. Надо было собрать вещи и хорошо, что их было мало, лишь одна чуть распотрошённая сумка, иначе бы Женя непременно что-нибудь оставил, сидя спросонок, чуть наклонившись вперёд, рассматривая через стекло плачущего ребёнка, назло маме стоящего на месте, в то время как она, назло ребёнку, уходит прочь.
Заседание должно было начаться менее часа вперёд и Женя, ничего не понимая, вспомнил, что ему нужно идти. Осадок (смутно) выпитого – осел в душе – тянул досмотреть очередной сон, который вот только что, но измятое тело требовало похмельного ухода из вагона. Он поднял голову вверх, увидел полузнакомых ребят, пробирающихся к выходу, и с трудом произнёс автоматическое “доброе утро”. Ребята, в свою очередь увидевшие ночного попутчика при полном свете, удивились его странному внешнему виду, но, однако же, спешили дальше и, чтобы снять с себя ответственность дальнейшего малоинтересного с ним знакомства, попрощались равноправным “пока”, причём Таша, шедшая между парней, сказала своё “пока” чётче остальных, так как с детства воспитывалась в условиях правильной речи.
- Да, - шевельнулось внутри пьяной головы, еле узнавшей ночную страсть из пяти шедших, а как только признавшей, так сразу не понявшей, что же было общего у неё с той институтской историей, давно забытой и ненужной, воскресшей по тёмному делу и оказавшейся настолько пустой по, казалось бы, не претендующему на осознанность, пьяному. В общем, в нём не осталось ничего, кроме досады на неё за что-то, о чём он через полчаса вспомнит и судорожно пнёт забытую в скверике детскую формочку, помогавшую ребёнку изобрести самолёт из одного только песка, отчего та подлетит на высоту, но на этот раз форма будет полой.
Нужно было выбираться на улицу, вагон стоял пуст и ждал только Евгения, который, наконец, прихватил дорожную сумку и вышел через три двери на перрон. Чужой город, в котором он ни разу не, был расфокусирован и неинтересен. Наверняка в нём всё было по стандартной схеме застройки – вокзал и мнимый центр с камнем из Ленина соединялись автобусом, а вокруг них затухал, распрямляясь и становясь ниже, эллипс жилого массива. Были наверняка, в нагрузку, такие Мекки горожан, как рынок и дом культуры, но они стояли рядом и, если смотреть от Ленина, были на одной прямой, поэтому не вносили особых искривлений в пространство. Отличие города было в цвете распустившейся на зданиях штукатурки, да в ответвлении вертикали судебной власти, благодаря чему и вызвали адвоката, которому необходимо было пройти межфокусное расстояние эллипса.
Промокшие от прошедшего дождя лужи таяли под солнцем, а вместо грибов выросли подорожные продавцы, предлагавшие всё, но у Жени было. Проштопав вокзал кривыми стежками ученицы, на выходе Женя столкнулся с соседом-солдатом, чего-то ожидавшим от невидимой дикторши, повторяющей только один раз. Герой нащупал внутри комочек давешней обиды на вояку, хотя и знал, что по мелочи, но в настоящем времени захотел расквитаться с молокососом. Он подошёл:
- Ну что, всё ждёшь? А чего ждать-то, иди, давай, отсюда домой, а то отпуск кончится, мамку не увидишь. Или нет, вдруг сбежишь ещё, так там, откуда ты, лишний живой останется.
Приученный к обращению со старшими солдат молчал, изредка по-строевому выгибая
спину, и совершенно
не понимал, чего надо шатающемуся перед ним человеку, и будь ему ещё чуточку лучше, чем приставшему, он бы точно встретил его казарменным словцом, но теперь решил переждать психа и пойти настрелять на пачку курева, либо одиночными.
- Чего молчишь, закурить нету? - допытывался долговязый, - небось только уставы читал, солдат обезьян? А кастету читал, дальний том, а? Да я, если захочу, посажу тебя, у тебя на лице восемь лет написаны, а я могу, я с прокурором знаком, понял? Ты войдёшь, а я тебе “встать, я иду”, а потом “направо, влево марш”, эх ты, мал ещё в поездах ездить, ладно, сиди тут, авось досидишься.
Перейдя привокзальную площадь и осмотрев местность, Женя, спросив у прохожих, с третьего раза добился объяснений, как пройти в здание суда, адрес которого был у него записан (еле доберёшься) на самом дне сумки и совсем не прятался (площадь Ленина). Путь лежал через сквер, где помимо потерянных формочек и ищущих их малышей было множество облупленных скамей цвета времени года, пока ещё не пришедших сесть на них старух, да и молодёжь в городе тоже была. Женя совсем не скрывал своего отношения к природе и, хотя и был сейчас нестоек, всегда любил пройтись по аллеям, паркам и другим массивам роста, всегда точно различая их по узору чугуна ограды, проводя типологию урн и заглядывая в столбовую задумчивость фонарей. Теперь у его кросса была цель – мелькавший вперемешку с солнцем, не поддающийся буйству красок прямоугольный монумент, на котором стояли, и как только стал совсем крупным, тут же налево, через дорогу, чуть пройти и уже можно различить треснувшую табличку суда и взобраться по парадной лесенке внутрь.
- Что же вы? Уже все в сборе, только вас. Минута в минуту пришли, – волновался помощник, - без вас никак нельзя было начинать, такое уж дело…
Да что он там бормочет, этот вечный архаический тип всех канцелярий без карьерного роста, берёт его под руку, отдаёт неуёмным потом полного человека, вводит в боковую дверь коридора и плотно закрывает её за вошедшим.
+X
Попав с бала на корабль, не думая, что всё выйдет так скоро и официально, имея при себе лишь самое необходимое, Женя стал осматривать зал. Ничего особенного. Ряды зрителей, родственников и знакомых обеих сторон, рассаженные симметрично коврового прохода, их тихий смирный гул, кафедра для свидетельских показаний, пока пустующие кресла президиума суда на лёгком возвышении (графин на столе), над ними – образующий с Богом пирамиду голов – золотой орёл в кровавом квадрате. Но что странно – место адвоката, справа от кафедры, пустовало, и какая-то рябь пошла по глазам, наверное, физиологические последствия, “а кто это рядом со мной по бокам, люди в форме, да, конвоиры, но почему они здесь, когда их место… а где же их место?” И тут его бросило в пот, в липкий и ледяной пот, который не скатывается, а, наоборот, пробирает человека так, что трудно бывает потом оторвать рубашку от тела, да и не будет никто этого делать – и без того холодно. Он сфокусировал зрение поближе и регулярная в своём рисунке рябь оторвалась от мозга и встала в полуметре от него в виде решётки с толстыми прутьями и некрасивыми наростами металла в местах поспешной сварки. “Этого не может быть, конечно, неприятно ошибиться дверью, тем более так, поэтому он сейчас встанет и обойдёт зал с другой стороны”. Но только он приподнялся, как один из стоящих подле, на излёте забытого произойти ночью зевка, скучающий и скучный мужик, одетый внутрь формы, ткнул его в спину, не время, мол, ещё, в конце своё гадкое скажешь. Он получил ещё раз, сильнее, уже испачканным синим цветом кулаком, когда вскочил снова и даже развернулся от первой досадной ссадины, не принимая власти стоящего ниже его человека, обязанного вставать перед ним, и желая позвать что-нибудь должностное. Вся влага вышла из тела раскрывшимися от ужаса порами, отчего язык онемел и желание пить одолело жажду освобождения, а в пищеварении произошло событие, сравнимое с таянием шарика тюленьего жира, в который голодный крайний житель смотал снова тюлений ус для обманки глупого и белого медведя, съевшего кругляш по следу двуногого.
Всё произошло за какую-то оставшуюся минуту и затем непонятно чей голос так привычно, но не щадя себя, словно его связки только что помиловали, прокричал: “встать, суд идёт!” Зал зашуршал и заскрипел, поднимаясь, конвоиры без того стояли навытяжку, сам голос был безног и только Женя не смог распрямиться, однако, учитывая возможное психологическое состояние подсудимых, суды разрешают им оставаться недвижимыми.
- Прошу садиться, - сказал средний колпак и бухнулся на седалище первым, затем, раскрыв пухлое, неровно, словно грязная одежда сложенное в папке дело, продолжил, - итоговое заседание по делу Виноделова, Евгения Владленовича, объявляю открытым.
Можно было, наверное, что-нибудь исправить, дать под дых мужику, закричать судью по имени-отчеству, апеллировать к залу, где было много (мало)знакомых и родственных чем-то лиц, можно было, в конце концов, вытворить что-нибудь совсем ужасное, например, резко показать документы наружу, но разве там будет стоять другая фамилия? или если уж адвокат, то разве это делает тебя неподсудным? Но Женя тихо молчал и катал выступившую на ладони влагу в тёмные коконы грязи, словно предчувствовал, ходя на заседания изнутри и полагая это главной защитой, что рано или поздно сам попадёт под обвинение, не сможет вечно держать оборону и когда-нибудь допустит оплошность. На самом же деле он ничего не предчувствовал, вжимаясь всё более в твёрдую скамью подсудимых, признавая за собой вину, и тем больнее и неожиданнее было для него настоящее, в котором судья, окружённый двумя такими же, говорил:
- После допроса всех свидетелей и выступления сторон на прошлых заседаниях, а также по материалам дела, суд удаляется для вынесения приговора на основании действующего законодательства и в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом.
“Одень шапку, я сказала! – простудишься! – умрёшь! - руки мыл?! – не позже семи! – недалеко! – не прислоняться! – где живёшь?! – давно не получал?! – не пацан?! – давай деньги! – верни сдачу! – делай уроки! – дай поносить! – ешь до конца! – к доске пойдёт… - жиндос! – мама не кормит?! – какой худенький! – где был?! – пошёл на хуй! – не на что?! – жидовская морда! – все вы такие! – баба! – садись, два! – кто стирать будет?! – мой твоему даст! – изверг! – виноделов!! – тебе добра хотят! – злой растёт! – снимай штаны! – дай покататься! – это не больно! – заткнись! – деда мороза нет!..”
…дцать пятой суд предъявляет подсудимому обвинения по статье …
“…номер, номер, какой у тебя номер? кто-то рядышком помер, так бывает, жил да помер, вот так номер, право, горе, раз, два – море, мы поехали на море, мама, что это? ракушка? как во дворе? да, доченька, и в ней улитка, и все опаздывают, а куда, пап? по делам? поделом… так ему и надо, дедушка был уже старенький, а куда он делся? аист обратно унёс? на утёс? нет, он высок, дай тот кусок, мне с кремом, не вредно, я уже большая, а ты был маленький? с усами? а откуда они тогда? а у меня вырастут? вопрос, ответ… аиста нашли в капусте или он принёс кочан? сынок молчун, не хочет? а вы так пробовали? пусть кричит, рыбий мир полезно, невкусно, я знаю, тоже был тобой, а бабушка внучкой была? а кем сначала? начало, начало…”
…приговор окончательный и обжалованию не подлежит!
За оконцем взошло солнце, наполнило помещение мягким красноватым светом, от которого не надо зажмуривать глаза, и сразу стало немного теплее. Первый луч преодолел низ деревянной рамы и забрался внутрь, коснулся жениной макушки, двинулся вниз согревать взволнованное тело. Самое первое поверье древних было связано с солнцем, - вспомнил Женя, - утром племя встречало огненный шар из-за горизонта, благодаря его за новый отпущенный день, а вечером прощалось со старой жизнью навсегда и подолгу стояло в каком-то своём обряде бледными лицами на запад. Расщепляющийся диск
всплыл из-под земли, п
лавя воздух, он был без ущерба и пятен, идеальной формы, и Женя представил себя младенцем на покрытом фланелевой тёплой тканью столе. Мама пеленала его в разрисованную пирамидками и лошадками пижаму, что полоскалась в солнечной воде, разлитой по-летнему открытым окном. Он не знал ещё слов и не умел ходить, но мог вспомнить, о чём потом забыл, что лежал вот так и раньше, в доме, где он родился, когда был ещё меньше и беспомощней, и пеленала его другая, но тоже женщина, а мама лежала усталая рядом. И что появился он под солнечный свет совсем недавно, из уставшей, и вспомнил тогда и тут же забыл, как затаился, не дыша, и ожидал рождения. Он хватался за питательную соломинку, входящую в него, из которой вышел сам, с обратной стороны которой всё так же светило понимающее солнце.
- X
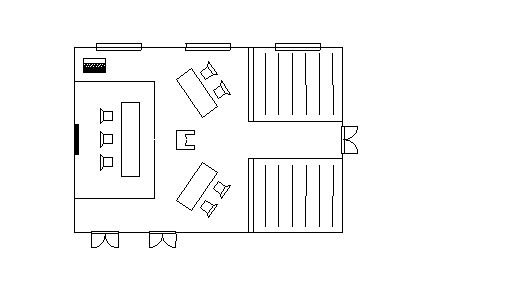
Попав с бала на корабль, не думая, что всё выйдет так скоро и официально, имея при себе лишь самое необходимое, Женя стал осматривать зал. Ничего особенного. Ряды зрителей, родственников и знакомых обеих сторон, рассаженные симметрично коврового прохода, их тихий смирный гул, кафедра для свидетельских показаний, пока пустующие кресла президиума суда на лёгком возвышении (графин на столе), над ними – образующий с Богом пирамиду голов – золотой орёл в кровавом квадрате. Ничего странного – место адвоката, справа от кафедры, пустовало, и Женя, перейдя трусцой арену, занял положенное образованием место. Могло показаться, что это заключённый будет защищать самого себя – так неважно он выглядел: причёска “провались в колодец”, тусклый фонарь под глазом, грязная и даже местами порванная одежда, запах, если сидеть в первом ряду. Спасала сумка с документами, с которыми адвокат не успел ознакомиться и спешно ворошил их, схватывая на лету, но бумаг было так много, что оставшаяся на часах напротив орла минута не спасала.
Рядом сел его подзащитный, пожавший руку мужчина лет до сорока, судя по виду, измученный семейной жизнью. На его лице, озабоченном своим выражением, словно пририсованные угольком, сидели усы, выдававшие комизм прежде основательности. Они уживались с очками и растущей вместе с хозяином лысиной, против которой тот чего только не перепробовал, получив от жены “колобка”. Растущее количество прозвищ стало не последним аргументом в желании мужа стать вдовцом, не убить супругу, так хотя бы забыть о её существовании, в чём ему мог помочь сидящий рядом. Дело состояло в том, что истица всячески препятствовала разводу, уехала к себе на родину и не являлась в ЗАГС для расторжения брака.
- Вот и приходится через суд! Уж вы помогите, чтобы только побыстрее! – волновался прошлый муж. – Вы не думайте, я сам нотариус, кое-что знаю: мне ничего не надо от неё, лишь бы развод оформить! Это просто решается, а вас я позвал для надёжности – всё лучше доверять профессионалам. – Он увлекался и мешал Жене, вокруг которого вились мутные мелодии, вчитаться в кое-какие бумаги. – Понимаете, лет пять назад встретились, – приехала в наш город на стажировку, и как назло в мою контору – ну, молодая, красивая, как не увлечься… Кто же знал, что так обернётся… И главное, как ловко у неё вышло – меня в городе знают, не последний человек был – так со всеми перезнакомилась, меня представляла, у меня поселилась. – Он взял адвоката под руку, желая, видимо, сообщить самое важное, и понизил голос, - да и я, дурак дураком, думал, пора семью заводить, возраст уже подошёл, так она мне на второй год заявила “не люблю, мол, детей”. Как я стерпел – ума не приложу! Думал, переменится… Ну что ж, вот и перемены…
- Суд идёт! – произнёс помощник и встал первым. Из боковой двери, с беспристрастным от бессонницы взглядом, вышли товарищи судьи. Увидев посередине мужчину, у которого могла быть своя жена, Жене стало немного легче, а, может, помог теперь уже полупустой графин, мутный от пальцев помощника. На дне ёмкости ворочалась известковая крошка. Пыльный луч из окна, преломившись в графине, попал в орла. Адвокат вполголоса общался с подзащитным, проясняя детали, пока судья не “попрошу тишины!” В это время, как всегда вовремя, обдав сидящих свежим ветерком, в зал вошла шикарная женщина, прошла вдоль провожающих взглядов и села напротив мужчин. Стройная, была одета в укороченную юбку, пиджак оттуда же, каблуки и блузка потемнее, волосы прибраны паучком. Судья, внимательно изучив женщину поверх очков, продолжил:
- Заседание по делу о расторжении брака между истцом, Рожкиным, Романом Ивановичем, и ответчицей, Рогозиной, Тальей Витальевной, объявляется открытым.
Далее председатель огласил защитников сторон и приступил к исполнению обязанностей. У Жени мгновенно прояснилось в голове и пересохло в графине, он пытался пробиться сквозь солнце, но видел лишь чёрную аппликацию подсудимой, к которой и обращался последующий час. Начались выступления сторон. Первым шёл Роман Иванович, сбивчиво выложивший свою версию. Адвокаты копались в бумагах, его жена поправляла маникюр.
- Вызывается ответчица, гражданка Рогозина, - словно шил судья.
Женщина встала, положила сумочку на место зада и взошла на кафедру. Она держалась настолько уверенно, что муж заёрзал на месте, а Женя, второй раз за день признав профиль, начал приглаживать ночной вихор смоченной пόтом ладонью и коситься на постамент для показаний, на котором стоял бюст ответчицы и полукруг полого низа котор(ого!)лял провод левой ноги. Судья, видевший трибуну лишь спереди, начал допрос:
-Назовите ваше полное имя.
-Талья Витальевна Рогозина.
-Кем вам приходится гражданин Рожкин?
-Сыночком.
-Напоминаю, что дача заведомо ложных показаний карается денежным штрафом.
-Он считается моим мужем.
-Почему “считается”?
-Потому что он оскорбил меня и выгнал из дома без средств к существованию.
-Гражданин Рожкин! Сядьте! Ответчица, отвечайте по существу! Кто он вам?
-Хорошо, он мне муж.
-Согласны ли вы на развод с гражданином Рожкиным?
-Я только этого и добивалась три года!
-Тогда почему вы не явились в ЗАГС и довели дело до суда?
-Откуда я знала, что нужно явиться?!
-Истец! Не машите письмами! Гражданин Рожкин неоднократно обращался к вам в письменной форме с просьбой развода. Вы получали письма?
-Да, что-то получала.
-Почему вы не ответили на них?
-Я их выбрасывала не читая.
-Однако, однажды вы написали мужу.
-Я просила переслать мне мои вещи.
-Он выполнил просьбу?
-Да.
-И даже после этого вы не читали письма?
-Нет, я их стала рвать пополам, а потом выбрасывать.
-Почему?
-Не люблю мужских слёз. Все эти “вернись, я всё прощу!”
-Кто может подтвердить факт уничтожения писем?
-Мусоропровод.
-Гражданка Рогозина! Вы находитесь в здании Правосудия! Потрудитесь вести себя прилично. Оскорбительное поведение также карается штрафом! Итак, вы согласны на развод с гражданином Рожкиным?
-Я буду просто счастлива!
-Спасибо, можете садиться. Итак, если стороны пришли к согласию, то на основании двадцать первой статьи, пункта второго, семейного кодекса Российской Федерации суд признаёт действительным расторжение брака между гражданином Рожкиным и гражданкой Рогозиной. У суда остался один вопрос – имеют ли супруги материальные претензии друг к другу?
Сытая летняя муха на слуху у всех пролетела по диагонали пространства, мнимо отделив мужчин от женщин, посидела на тёплом стекле и стала биться об орла, наслаждаясь акустикой зала. Женя перевёл взгляд на подзащитного, шепнул “у вас есть претензии?” “Да что вы! Я и так счастлив!” - не мог успокоиться холостяк.
Напротив поднялась адвокатиха, оправила кофту по периметру
ушедшей талии, словно ст
ояла без юбки, и, встряхивая в протянутой руке накрахмаленный листок, обратилась к судье:
- Господин судья, у истца на квартире остались драгоценности моей подзащитной, подаренные им в течение их совместной жизни. На основании статьи “256” гражданского кодекса, пункта второго, они являются собственностью госпожи Рогозиной.
- Гражданин Рожкин, – судья поднял его с места, – вы обязуетесь передать указанные ценности своей бывшей супруге?
- В самое ближайшее время, товарищ судья! – обрадовался усач.
- Итак, если больше нет претензий сторон, объявляю заседание закрытым, – председатель захлопнул папку и ударил стол её торцом.
- Позвольте! – Адвокат истца пукнул стулом, зашатался на правой ноге, облокотился о стол, удержался – встал в рост, - у меня есть несколько вопросов к ответчице. Талья Витальевна! У вас есть личное транспортное средство?
-Есть Форд.
-Как давно вы им пользуетесь?
-Года три, а что?
-Вы приобрели автомобиль самостоятельно?
-Нет, муж купил себе – мне отдал старую машину.
-Так! Имеется чек, - Женя помахивал пожелтевшей бумажкой, - подтверждающий, что машина куплена ДО брака с Рогозиной, а значит, принадлежит Роману Ивановичу! Потрудитесь вернуть. – Он смотрел на Ташу, но увидеть мешал прямоугольный нимб.
Рожкин неловко тянул адвоката вниз, приговаривая “что вы!”, Таша пристально смотрела на адвокатиху, ища защиты. Полная женщина, словно ожидавшая слова, оправилась снова:
- Господин судья, согласно той же статье имущество, в данном случае – автомобиль, переданное в дар одному супругу, считается его собственностью. Я считаю претензию истца необоснованной.
Муха объявилась вновь. Теперь она опыляла кафедру для показаний и, присев ненадолго, потирала от радости лапки. В дверь зала посмотрели – голова поискала глазами, встретилась с Женей; в проёме стояли люди в камуфляжной форме, дула орудий искали по сторонам и Женя успел заглянуть в одно из них. Судья озадаченно листал брошюрки и советовался с пристяжными. Наконец, приняв справедливое решение, он прокашлялся речью:
- Принимая во внимание, что никакой дарственной совершено не было, также то, что автомобиль не может считаться вещью личного пользования, он остаётся собственностью того, кто был его владельцем до брака, то есть Романа Ивановича. Супруги обязаны вернуть имущество друг другу. На этом объявляю заседание закрытым. Аминь, - пошутил напоследок судья.
Зал зашумел немногими голосами, все встали в спёртом воздухе выйти вон, Таша громко отказывала адвокатихе в оплате, говоря, что будет копить на автобус. Та отвечала, что спит со сводом законов и будет бесспорный пересмотр. Рожкин паниковал, повторяя “что вы наделали!”, потом побежал просить прощения у подсудимой. То ли от выигранного дела, то ли от погожего дня, может, просто так, Жене стало так хорошо, что он позволил песенке напеваться через себя. Песня была глупая и не попадала в ноты, но это было неважно. Пока все выходили, он смотрел на спасшийся от стеклодува шарик воздуха в стене графина. Тельце, видимо, поднималось, пока стекло было мягким, потом застыло на полпути к атмосфере, но в нём сохранился воздух и, значит, могло немного пожить крохотное существо. Пока люди входили в зал, Женя смотрел на свои пальцы, длинные и грязные, похожие на веточки тополя, которым в детстве он переламывал косточки; на свои ладони словно старого человека, где морщины заменили силу, дробились прожитой жизнью, ещё ладошки лет в пять, что не удержали однажды столовое яйцо и на мальчика строго посмотрел чей-то растёкшийся глаз. Люди были в камуфляже. Они окружили стол адвоката – молча переминались чёрные ботинки, справилась бы и одна пара, одна из которых подошла ближе и голосом главного утвердила: “Евгений Владленович?!” Женя глупо улыбнулся, подтверждая свою личность. Главный достал из формы чуть помятый листок канцелярской бумаги и положил его на стол поверх документов защиты.
- Вы подозреваетесь в совершении преступления, извольте пройти с нами для выяснения. Здесь недалеко, в этом же здании.
Даже не собрав материалы дела и продолжая улыбаться, Женя встал, окутал взглядом пришедших за ним вояк и направился к выходу, но, обернувшись у двери, увидел упавшее на пол жёлтое окно, придавленное тенью креста.
= 28
Женя открыл глаза. Раньше, часто, выпадали из жизни дни, когда не присядешь-отдохнёшь, бегаешь по чужим делам, изматываешься, отчего сон мог придти редко когда вовремя, находя человека в работе. Теперь, иначе, Женя засыпал, когда сну вздумается, а если спать было невмоготу, то просто закрывал глаза, прикидываясь спящим и обманывая организм. Тело старело от бездействия, как батарейка, и не искало выхода энергии. Вообще, положение глаз становилось безразличным, постепенно перемешивая то, что было перед гла-, и то, что -за, в одну статичную картину – квадрат с распятым по небу крестом в каменной раме. Женя закрыл глаза.
Он оказался и будет казаться в одиночной камере на двух человек, одна койка в которой была пуста. По традиции госучреждение располагалось в бывшей дворянской усадьбе, где пятиметровые потолки вырезали лоскут купола танцевальной залы, а нищая лампочка текла из изящной лепнины погасшей люстры. Можно было заметить кладку, чья форма напоминала окно, из которого когда-то на спор кидались в сад, оставившую человеку квадратик облака. Вины он не ощущал и находился в камере как на перевалочном пункте, когда вещи уже отправлены и ожидаешь своего отъезда в полном бездействии, ковыряя ботинком узор почвы, но сейчас почва была бетонной. Из окошка, не прикрытого стеклом, доносились запахи упавших листьев лиственницы, участившихся дождей и успокаивающегося мира, проникавшие, когда приоткрывалась жестяная дверь или (в ней) надзирательное окошко. Женя понял, что наступила осень, не календарная – сначала он пытался вести календарь самостоятельно, но, когда ему передали настоящий отрывной, потерял счёт листам, – а вынужденная, когда, опаздывая на работу, ворошишь забытые за лето осенние вещи. Однажды он поймал в объектив своей обсерватории стаю улетавших спиной к нему птиц.
Обвинение предъявили на следующий после ареста день. Женю пригласили (снова вместе, словно лучшего друга) в комнату следователя, сухого, неинтересного, как пёс преданного работе человека, которого даже не прикручивали к полу. Он молча положил перед Женей страшный листок и начал протирать очки, смотря через решётку на немытый мир, потом подробно рассмотрел читавшего, закончил протирать очки и сделал гимнастику пальцев: он то растопыривал их, словно запугивая Женю, то сжимал, притягивая к себе.
Через два дня Женю повели на первое свидание. Он изучал неровности покрашенной штукатурки, уже найдя трёх медведей, когда в дверь камеры не постучали, а вошли/вошёл дежурный надзиратель и повёл за собой. Комната встреч находилась на первом этаже особняка и была поделена пополам сетью для металлических мальков, стояли также стулья. Ещё не понимая, кто захотел его видеть, Женя стал по-разному фокусировать ячейки сетки, отчего та то замыливалась, то выпячивалась. Спустя смущение напротив сели две девушки, которых Женя не признал и как бы не заметил их, пока одна:
- Вы нас помните? Мы вместе в поезде ехали! Вы ещё с Ташей рядом сидели?
Они были похожи до безразличия, их мать, должно быть, путалась в пелёнках, сейчас они держали в руках пакеты с рвущими их углами продуктов. Затем другая:
- Мы похожи, но мы подруги, так получилось. Мы вот вам поесть принесли, вам передадут. Мы очень беспокоились, вы, наверное, не знаете, что произошло.
- Да! После того, как все ушли, мы остались на перроне и к нам подошли трое милиционеров. – 1-я.
- И спрашивают, где тот, что с вами ехал, проводница сказала, что вы вместе были, а Таша отвечает, что мы вместе не были, и рукой кивает, куда вы ушли. – 2-я.
- А Хаша говорит, дура, что ль, туда все с поезда ушли, а потом спрашивает,
что вы натворили. – Чёрна
я.
- А они говорят, не ваше дело, много будете пить, скоро сядете. Мы тогда подумали, что вы выпили и натворили случайно каких-то дел, а так вы добрый! – Белая.
- Мы справились в тюрьме – нам сказали, что вы тут. Хаша тоже хотел заглянуть, наверное, задерживается, он Ташу пошёл провожать на вокзал. – Сладкая.
- Она сегодня ночевала у фашиной тётки и поругалась с Фашей, забрала вещи из номера, вся в слезах была, материлась на нас. – Кислая.
- Вы знаете, я так не люблю, когда на меня повышают голос! – Диез. – Я ей так и сказала, или мы уезжаем, или ты!
- Мы попрощаться зашли. Мы скоро уезжаем, а вас, надеемся, что это недоразумение, скоро выпустят. Вы продукты храните при пониженной температуре. – Уже уходя, бемоль.
Два раза в день окошко двери открывалось и обрубленные рамой серые руки ставили преступнику немытый алюминий на приступку. Из металла были помятые жизнью миска и кружка, наполненные не до краёв не съеденной жижей. Посуда кормила плохих людей, чтобы они продолжали жить, но люди не желали жалости плошек и гнули ложки, мяли миски и копали кружками камень. Посуду остервенело вылизывали, отчего пищу на кухне не солили и питали арестантов не глядя. Женя послушно брал похлёбку, не потому, что очень хотел есть, ведь запах тюремной еды не мог быть желанным, а потому, что так полагалось, и часто не успевал съедать до повторного обхода. Миски оставались грязными и, чтобы очистить их, бесполые руки опрокидывали объедки внутрь камеры.
В самом начале заточения, когда не было неровной бороды по плечи, Женя не замечал маленького сырого помещения, словно был в гостях у правосудия, и всё больше сидел на краешке койки либо читая, либо смотря в окно. Затем он стал вести себя так, будто по-прежнему в гостях, но хозяева не пришли и пришлось остаться. Все вещи – двухъярусная жёсткая койка с подобием матраса, протекающий из стены кран, дыра в полу со стельками по краям (больше ничего не было) – стали воплощаться и требовать к себе внимания. Поневоле приходилось оставлять отпечатки пальцев на ручках, прутьях, кранах, и начинающий криминалист насчитал бы в камере семь Жень.
Заниматься деятельностью в каморке было невозможно, не было никаких условий, света становилось всё меньше, бессилия больше, вдобавок Женя находился под наблюдением и часто, собираясь что-то сделать, оглядывался на дверь, в которую могли зайти, ударить или просто подсмотреть, и тогда пропадала малейшая охота на ленивого зверя. Да и занятий в коробке стен было мало – читать либо думать; и если книг имелось немного, то мыслей – предостаточно. Вынужденная библиотека образовалась в каморке охранников: заключённые оставляли им на память принесённую родственниками бумагу, ту, что не использовали после прочтения никак, в основном это были журналы, кодексы и всякая гастрономическая чепуха. Макулатура была сальная и непроходимо глупая, читать такое становилось хуже бездействия и Женя, повторив уголовный кодекс, больше не обращался к слову. Он лежал спиной к полу, залысинами к двери, и смотрел световую синусоиду суток. Когда узник стал покашливать, а рама окна по утрам покрываться инеем, включили слабый обогрев стены (можно прижаться спиной), отчего на полу образовывалась ледяная лужица, из которой, как однажды отшатнулся Женя, утолялась уверенная крыса.
Кашель усилился до отслоений внутри горла, приходилось сутулиться над раковиной, выплёвывая на ржавчину зеленоватые кляксы, терпя боль при каждом сглатывании внутрь. Источниками тепла были только лёгкое на просвет одеяло и остывший мусорный чай в кружке (смятой), но они лишь возвращали излученное Женей. Он не мог думать ни о чём более, боль напоминала о себе каждые десять секунд, словно он подавился неочищенным ежовым мясом, он больше не мог есть и обратился в тюремный лазарет, переоборудованный из кабинета следователя тем, что серый пиджак заменили на серый халат. Доктор, разжалованный судмедэксперт, повертел бывшего адвоката в руках, заглянул в горло, ставшее душой тела, хрустнув пальцами помассировал больные миндалины и открыл ящик стола, кирпично забитый коробочками. “Ешь это!” - приказал врач, кинул одну коробку в Женю и стал мять личное дело шариком ручки. Внутри оказались чёрные горошины с металлическим привкусом, витамин Z. Женя раскусил сферу – внутри был чёрный шарик помельче. За спиной лекаря висели плакаты, изображавшие человека в разрезе ножом, и больной, ожидавший писаря, мог найти, как в зеркале, свой ноющий орган. Лечение по плакату было несравнимо легче – боль была выкрашена в тревожный цвет и висела снаружи, тогда как в жизни находилась глубоко внутри и была незаметна.
Несколько раз Женю вызывали на допросы, но они не приносили ничего нового. В кабинете следователя всегда сидели охранник и нехорошенькая стенографистка. Следователь начинал спрашивать про обстоятельства дела, просил, отклоняясь подальше, не кашлять в его сторону, с тщательностью энтомолога рассматривал ненужные подробности, которые, думал Женя, не имеют смысла, раз вина очевидна. Дело было ясным, далеко не первым у следователя и потому неспешным – преступник сидел смирный напротив, а причины следствия остальных дел ещё бегали по миру – поэтому суд откладывался до зимнего затишья.
Давно, спустя месяц после ареста, к Жене пришла жена. Они встретились в комнате для свиданий, через стул от первого визита девушек. Он позвонил ей сразу, в тот злополучный день, но она медлила, приехала намного позже. Они смотрели друг на друга, как фармацевты смотрят в рецепты, силясь прочесть неразборчивое и подыскивая замену имеющемуся. Жена постарела и сказала:
- Я спросила у начальника, он говорит, дело серьёзное…
Замолчали. Женщина долго спихивала платком нос со своего лица. Неудачно. Мужчина смотрел виновато вниз, делал ногтем борозды в дереве стойки. Глубоко. Женщина могла помочь мужу, но не знала, чем конкретно. Глядя на него, поняла, что не хочет помогать. Испугалась:
- Ты обо мне подумал? Я одна с двумя детьми на руках! Чем их кормить прикажешь? Тебе-то тут наливают! Все деньги на книги перевёл! Скрытная твоя душа! Как же тебя угораздило?! Соседи узнали… Ну что ты молчишь?
Женя захотел уйти к себе, становилось скучно выслушивать домашнюю истерику жены, но спасала сетка, в которую пролезали лишь пальцы. Он строил из борозд транспортную развязку ограниченных тупиками путей. Жена смягчилась:
- Может, тебе что-нибудь нужно? – он дёрнул шеей вправо. – Правда, что ты был судебным шпионом? У нас в городе слухи ходят… со мной разговаривать перестали, твои друзья больше не звонят… Ты похудел. Осунулся… Я дочкам сказала, что ты нас бросил, им так легче будет. Старшая плачет, не верит мне, не разговаривает…
Замолчали. Мужчине захотелось отнять/обнять старшую дочь. Он решился в будущем сделать это. Женщина волновалась, мучила платок, перебегала глазами, наконец решилась:
- Женя! Я хотела сказать… Ты должен понять меня. Я уже немолода… кто знает, как далеко тебя отправят… Пойми меня правильно! Мне тяжело… Давай разведёмся! Тебе всё равно не видеть меня, а я одна мучиться буду… мне о детях заботиться надо…
Замолчали надолго. Женщина выжидала, словно количество тишины снимало с неё ответственность. Она знала, что ей нужно. Мужчина выслушал жену, как будто слышал эти слова не раз и успел заучить своё несчастье. Судя по виду, ему была безразлична речь женщины, что действовало на неё угнетающе, но не останавливало:
- Мне пора уходить… Я приеду как-нибудь снова. Ты знаешь, мне было хорошо с тобой, но ты стал немного странный, замкнулся в своих афёрах, мне ничего не рассказывал. Наверное, ты сам виноват в том, что случилось… Давай сохраним хорошие отношения, у нас так много общего! Помнишь, как нас награждал ректор, - я сохранила значок… Ну, мне пора, не грусти тут, я надеюсь, всё обойдётся…
Он неподвижно лежал в подвале двуспальной койки уже с неделю. Стены камеры остывали от осеннего времени года и, согласно механическим законам, пространство сжималось вокруг лежачего. Лампа потолка светила в темноте и не привлекала вымирающих насекомых; Женя также ничего не излучал для них. Пару раз сытые руки окликали его от двери, н
о не получали ответа и больш
е не приходили. Допросы за очевидностью дела все кончились и заключённого не беспокоил никто, даже кашель перестал быть чужим и молча поселился в надорванном горле. Более слабые потребности тела перестали проявляться вообще и лишь сознание ненадолго приоткрывало Жене беспомощность его положения и уносилось прочь. Вспомнили о нём случайно, когда в ту же камеру определили опасного заключённого и обнаружили неподвижное худое тело. Ввиду плачевного состояния, истощения и прогрессирующего туберкулёза, его поместили в тюремный лазарет, второе по важности здание в усадьбе.
Только очнувшись на больничной койке, он увидел настоящих преступников, их отличало от свободных людей безразличие к собственной судьбе, то, что проблемы их жизни концентрировались в метре от болячки, на которую, кстати, они не обращали внимания, так как считалось, что в лазарете кормят получше, к тому же – образовывалось общество. В их лицах выражение безнаказанности было подпорчено историей болезни, и Женя, вернувшись в сознание, даже жалел некоторых соседей и познакомился с ними (тебя за что?) В некоторые утра приходил серый халат и, стоя посередине палаты, осматривал подчинённых, затем определял лечение в виде множителя к числу чёрных горошин.
Пища была той же, зато трижды в день, но холоднее из-за проноса через замёрзший двор тюрьмы. Женя часто смотрел через решётку, как двое осуждённых дежурных тащили за ручки широкий дымящий чан и плескали из него наружу, если сбивали шаг. Окно было большим и показывало первую стужу в природе, слабость деревьев, по утрам – резьбу по инею, бегали также собака и соперничающие с ней за пищевые отходы вороны. Ощущение чужой жизни способствовало выздоровлению. Рядом с кроватью стояло ржавое судно наоборот – для воды внутри, – оно было старым и царапало кожу, Женя собирал в нём сначала жёлтые, затем красные кляксы, и его светофор не думал переключаться. Его положение как больного стабилизировалось и обещало скоро закончиться переводом в основную массу осуждения.
Люди вокруг болели, в основном, от неправильного содержания, появлялись разные кожные покровы и инфекции. Мужичок справа часто выяснял, кто кого заражает, он Женю или Женя мужичка. У него не хватало понимания болезни и в итоге он приходил к уничтожению всего человечества от кашля, прося пододвинуть посудину: “дай-ка и мне поплавать!” Слева от Жени лежал вполне здоровый человек, недуг которого коренился в нервной почве. Мужчина ждал скорого освобождения и боялся, что невеста не дождётся его “с нар”. Помножив тревожное состояние на низкое качество пищи, он получил долгосрочное расстройство кишечника. Написать очередное следующее письмо к любимой становилось всё сложнее: помимо вынужденных перерывов через каждое пять отборных строк, бумаги в палате становилось всё меньше. Проникаясь проблемами соседей, Женя не заметил как поправился настолько, что был переведён обратно – на большую землю. Просто однажды пришёл конвой: “Ну что, ликёроводочный король! Собирайся на дезобработку”.
В прошлой камере Жени теперь сидел жестокий человек. Администрация тюрьмы заботилась о безопасности заключённых и не помещала вместе всех подряд, - Женю отвели на новое место, в противоположный флигель, и закрыли за ним дверь. Помещения были похожими и он справил нужду на ощупь, затем, усталый от обратного перевода затемно, упал на нижнюю кровать и заснул. Но, как часто бывает после напряжённого дня, вскоре проснулся от быстрого сна и лежал неподвижно, словно был без тела и возможности пошевелиться, отмечая происходящее вокруг не ощущениями, а лишь чувствами.
Женя понял, что было причиной пробуждения: флигель выходил окошками к железнодорожному полотну. В прежней камере он слышал продвижение поездов, но как-то приглушённо, они не въезжали в его сознание, не имели силы. Теперь звуки завораживали, звали за собой, звенели в ушах, замыкали на себе пространство. Прожектор паровоза двигал по клети светлую тень окна – сначала на противоположной стене, затем по потолку над дверью. Через час Женя, выучив язык звуков, различал товарный от пассажирского, мог прикинуть число вагонов и длину состава в метрах, рассчитать скорость и отличить порожняк от тяжёлого груза. Ему даже стало казаться, что он знает, что везут внутри вагонов: достаточно было атома запаха, чтобы представить реальные размеры. Везли шоколад, бразильский кофе, какие-то ватрушки, пчёлы везли мёд, он, видимо, засахарился. Через час проехали мимо орехи, жареные ножки, харчо в очень больших цистернах, коровники с торчащими мордами доярок. А перед самым рассветом Женя увидел, как во двор тюрьмы загоняют полный подушек вагон, а он сопротивляется.
Разбудил Женю стандартный (два удара половником по обшивке) стук бесполых рук. Он бегом вскочил, принял горячую радость и успел донести-не обжечься до кровати, по пути опуская помятое ночью лицо в пар миски. Отдав лёгкую и блестящую миску назад, он зряче справил накопившуюся за ночь нужду, умылся бодрой холодной водой (второго крана не было), проскрёб немного бороду бритвой и вышел на середину помещения делать зарядку – он был доволен жизнью.
На верхнем ярусе кровати, лицом по направлению к окну, скрестив ноги на паху, тихо и неподвижно сидел старик. Белая борода его была ощипана, но ему удалось вырваться и на подбородке что-то осталось, он был неприкрытый волосами, в одной рваной майке и незначительных штанах. Казалось, он умер или заморозил себя до конца срока. Женя отошёл подальше. Почему он не заметил его вечером? Если старик уже умер, то его должны отсюда забрать, или от него должно пахнуть разложением, но не пахло. Если он йог и отказался от пищи сознательно, тогда почему его тело покрыто наколками как загаром? Если он так болен, что не может пошевелиться, почему он не в больнице? Женя вспомнил, как сам лежал непонятно сколько в болезни, и никому не было дела до него, и решил сказать надзирателям о живом человеке.
Голова старика медленно и плавно начала поворачиваться в сторону Жени. Дойдя до какого-то своего предела голова остановилась и старик посмотрел Жене в глаза. Затем так же, словно работала только одна мышца, отвернулся обратно.
Женя простоял в углу до наступления темноты. Он чувствовал себя неловко и очень тревожно – “одно дело, когда ты один, и совсем другое, когда рядом живёт другой. Непонятно, что можно ожидать от незнакомого человека”. Когда принесли вечернюю пищу, надзиратель сказал, что старик этот – странный, ест редко, когда сам захочет, жалоб на него не было, поэтому считается смирным. Слушая служащего, Женя понимал, что старик, если не глухой, слышит их разговор, но сказанное охранником успокоило бывшего адвоката. Он вернулся на место и прилёг до завтра. Волнение не покидало его, он смотрел на потолок кровати, на котором сидел старик, и не мог забыть престарелого взгляда утром. Лунная ночь освещала внутренности камеры и Женя почти расслабился, задремав, когда стемнело ещё больше. Приоткрыв глаза, он увидел контур головы склонившегося сверху старика, закрывшего доступ света. Старик долго смотрел вниз, минут пять от вечности, отчего Женя потяжелел вдвое, притворился спящим, но глаза держал открытыми, чтобы бояться чего-то конкретного. Старик ушёл к себе на койку, но Женя уже не мог спать – он присел у двери в камеру, чтобы видеть, что делает тень старика, и в такой позе его разбудил половник.
Понемногу жить вдвоём стало привычно, Женя научился не замечать сидящего сверху, словно его нет как живого, научился не бояться засыпать по вечерам. Однажды, когда Женя уворачивался от бессонницы, он не услышал, но почувствовал, как старик плачет. Это была не вода, а немое горе, текущее сверху невидимой волной и наполняющее камеру – Женя прослезился в ответ на страдания старика и стал бережнее относится к нему: всегда отмечал, что он не один, и был готов к малейшему движению сожителя.
За оконцем зашло солнце, наполнило помещение мягким красноватым светом, от которого не надо зажмуривать глаза, и сразу стало немного теплее. Первый луч преодолел верх деревянной рамы и забрался внутрь, коснулся жениных ступней, двинулся вверх согревать взволнованное тело. Самое первое поверье древних было связано с сол
нцем, - вспомнил Женя, - утром
племя встречало огненный шар из-за горизонта, благодаря его за новый отпущенный день, а вечером прощалось со старой жизнью навсегда и подолгу стояло в каком-то своём обряде бледными лицами на запад. Расщепляющийся диск плыл под землю, плавя воздух, он был без ущерба и пятен, идеальной формы, и Женя представил себя стариком на исходе из жизни. Внуки его давно разбрелись от его детей, он остался один на краю провинциального городка в крошечной квартирке, а может, на границе областей в ветхой пятистенке, топя понемногу печь. Он изредка выходил на улицу, до магазина и обратно, или вовсе не показывался, не желая отвлекаться от пересчёта дней. Он отвык от плотности мира и даже не включал электрический свет, чтобы не видеть предметов. Но каждый вечер, белό ли, зелено, его видели на окраине деревни, он садился на завалинку недвижим и провожал понимающее солнце.
Николай Граник
2001+1
|
ЛИТЕРАТУРНАЯ СЛУЖБА © 2002 | |